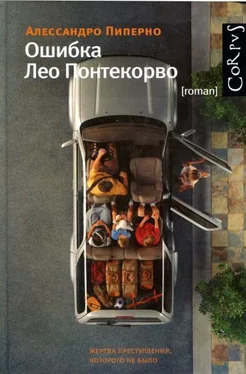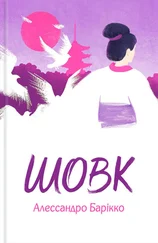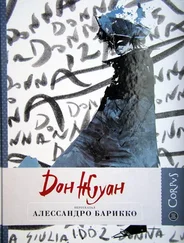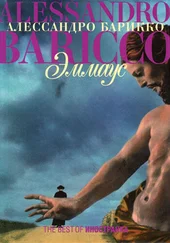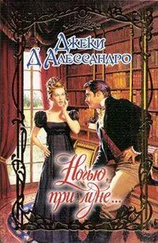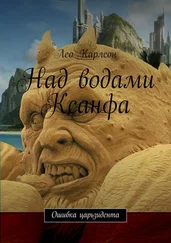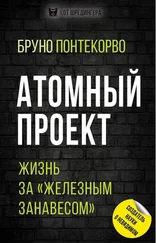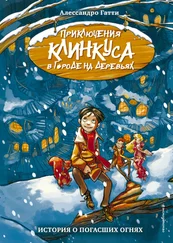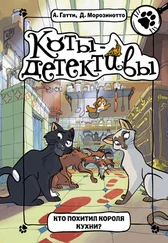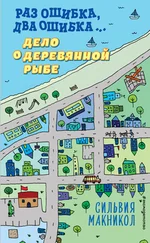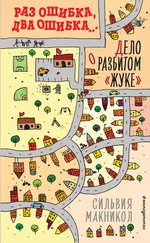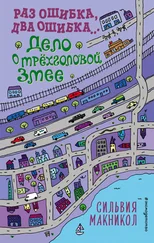«Ах да, реакция родителей».
«Она может быть действительно непредсказуемой и агрессивной. Тогда вмешиваются психологи. Их задача — убедить родителей, что это правильно как с этической, так и с терапевтической точки зрения, чтобы их дети знали, чем они больны и какой опасности подвергаются».
«И им всегда удается убедить их?»
«Я бы сказал да! У них просто дар убеждения. И здесь начинается третий этап. Когда маленькая делегация, состоящая из меня, психологов и родителей, направляется к ребенку. И поверь мне, странным образом — это самый легкий этап, потому что ребенок обычно очень восприимчив. Потому что, в отличие от родителей, он хочет знать. Потому что, в отличие от родителей, он еще готов принимать несчастья, которые случаются с ним. Когда дети совсем маленькие, они не совсем понимают, что ты им говоришь, и через некоторое время отвлекаются и перестают тебя слушать. Подростки плачут. Да, по большей части плачут».
«А что ты им такое говоришь, что они плачут?»
«Говорю им, что нашел больные клетки, не знаю, например, в брюшной полости. И что эти клетки объединятся с другими, чтобы взбунтоваться против тела. И чтобы их победить, нужно кое-что сделать. Конечно, мы делаем это не так грубо, как я тебе рассказываю. Мы рассказываем все это постепенно. Сначала говорим ему одну часть. Второй раз добавляем еще что-то. И так далее. Мы говорим ребенку, что он может на нас рассчитывать, что он может спрашивать у нас все что угодно, и мы ответим на все его вопросы».
«А потом что случается?»
«Случается, что пациент начинает доверять тебе. Он знает, что ты его не обманешь. В сущности, он и так догадывается, что с ним происходит что-то серьезное. После всех анализов, которые он прошел в нашей больнице, после того, как сами же родителя окружили его чрезмерной заботой в последние недели… После всего этого лучше быть честными с ребенком. Он имеет право на то, чтобы с ним говорили открыто».
«Но зачем говорить ему об этом во что бы то ни стало?»
«Отчасти потому, что по статистике лечение сознательного пациента проходит эффективнее, чем бессознательного. Кроме того, это дело принципа. Каждый из нас имеет право знать то, что с ним может случиться. Приведу тебе один глупый пример: если бы у тебя после еды в зубах остались кусочки шпината, ты бы предпочел, чтобы папа тебе сказал об этом или чтобы все это увидели и стали смеяться над тобой, а ты бы даже и не знал, что над тобой потешаются?»
«Я бы предпочел, чтобы ты мне это сказал».
«Именно. Это то же самое. Достаточно один раз рассказать правду и не выдумывать басни. Тогда ребенок будет тебе доверять. И между вами возникает сотрудничество. Также когда мы выписываем лекарство, мы всегда говорим о его побочных эффектах. Мы говорим: „Послушай, от этой таблетки у тебя может заболеть живот, а от этой выскочить сыпь на губах и так далее“…»
С каким красноречием Лео рассказывал все это сыну. С каким увлечением. С красноречием человека, который ставил свою работу даже выше столь любимой им и достойной любви семьи. Может быть, потому что на работе он всегда чувствовал себя уютней, чем дома, где его иногда мучила постепенно растущая неуверенность.
В своем онкологическом отделении для детей профессор Понтекорво ничего не боялся, никогда не ошибался, был краток и эффективен. Кроме того, выражение в «своем» стоит понимать буквально. И не только потому, что Лео при авторитетной поддержке своего учителя, профессора Мейера, сделал существенный вклад в основание этого отделения, но и потому, что в какие-то тридцать девять лет он получил в наследство управление этим отделением. Он стал самым молодым главврачом. Предприимчивым и волевым главным врачом. Главным врачом, который никогда не перекладывал обязанности на других и предпочитал сам «пачкать себе руки». Который никогда не щадил себя, не ставил непреодолимых барьеров: пациенты могли обращаться к нему круглосуточно.
Стоит сказать, что такая преданность работе была возможна благодаря снисходительности Рахили. Она явно не принадлежала к типу жен, вечно жалующихся на то, что их мужей нет дома, что они слишком много работают и думают только о карьере. И не потому, что она возлагала какие-то особые надежды на карьерный рост Лео, а потому, что она была адептом культа труда, привитым ей отцом: труд мужчины — это святое. Порядочная женщина и хорошая жена должна всячески облегчать обязанности мужа, не связанные с работой. Менять подгузники, отводить детей в школу или помогать им делать домашнее задание по математике — не мужское дело. Муж должен думать только о работе. И жена должна сделать все, чтобы обеспечить ему право на этот своеобразный эгоизм.
Читать дальше