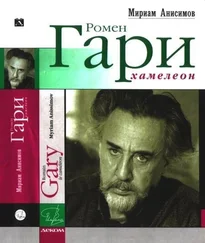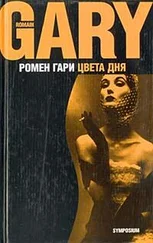— Вы что-то ищете?
— Я хотел бы с кем-нибудь поговорить.
Он посмотрел на Вандерпута. Старик сидел на земле и стонал, держась за щеку.
— Хотите видеть отца настоятеля?
— Да, пожалуйста.
Он замялся. Я поймал себя на мысли, что первый раз в жизни разговариваю с монахом.
— Войдите. Ворота там, у большого вяза. А дом братии напротив.
На лице его читалось почти детское любопытство, казалось, он хотел еще что-то добавить, но сказал только:
— Схожу позову отца-настоятеля.
И, к моему удивлению, побежал бегом. Может, они уже знают? Ведь с тех пор, как мы выпрыгнули из поезда, прошло два часа.
— Хорошо бы у них нашелся зубной врач, — проскрипел Вандерпут. — В монастырях обычно все есть.
Жестар-фелюш утер рукавом слезы с желтого, измученного лица.
— Не могу больше.
Ворота оказались запертыми. Над ними висел колокол с цепью, но мне казалось, что если я дерну за нее, то сам дам сигнал тревоги и взбудоражу всю мирно дремлющую округу. Дом стоял прямо напротив ворот, позади старого пустого водоема с вертикальной плитой солнечных часов. Пока я колебался, из двери дома вышел и широкими шагами пошел к нам высокий сухопарый монах со связкой ключей. Тощий, кожа да кости, седобородый, он был примерно одного возраста с Вандерпутом. Не взглянув на нас и не поздоровавшись, он открыл ворота, впустил нас и, как я заметил, снова запирать их не стал. Все так же молча провел нас в дом и тоже оставил дверь открытой. В полутемном сквозном коридоре было свежо и тихо, тишину нарушало только свистящее дыхание Вандерпута да плеск воды — посреди коридора был питьевой фонтанчик, рядом висела на цепочке кружка. Противоположный конец коридора выходил в залитый светом сад, где садовник в белом обрезал секатором розовый куст. Вандерпут нагнулся к фонтану и, жадно хлюпая, втянул в себя струю. Монах быстро шагал впереди нас, он отворил одну из дверей, и мы очутились в просторной темноватой библиотеке, на стене висело распятие и несколько плохо различимых гравюр. Из двух распахнутых окон падал косой свет и ложился на пол яркими пятнами, за окнами радостно трепетали листья. Тишина, птичий щебет, жужжанье пролетевшего шмеля, опять тишина и запах весны. Белая фигура воздвиглась в углу из-за стола и приблизилась к нам. На столе лежала стопка листочков, похожих на счета от поставщиков, авторучка с открытым колпачком, стоял телефон устаревшей модели. Я открыл рот, но заговорил с трудом — некоторые простые слова, которые другие произносят автоматически, для меня имели слишком большое значение.
— Здравствуйте, отец мой.
— Здравствуйте.
Голос был мягкий, красивый, глубокий, как-то особенно оттенявший царившую в зале тишину. Настоятель стоял спиной к свету, так что я видел только его белоснежную сутану, лицо же казалось бледным пятном, видел тонкую щель рта, очки, но не глаза за ними. Голова вырисовывалась на ослепительно-зеленом фоне молодой листвы. Он поднял руку, не давая мне продолжить:
— Я знаю, кто вы.
В голове у меня сразу мелькнуло: входная дверь и ворота остались открытыми.
— Нам позвонили перед началом службы. Так что мы помолились и за вас, — торжественно прибавил он. — Звонили из мэрии. Они решили, что вы можете попросить у нас убежища. Конечно, чуть что, сразу подозревают нас.
Почудилось мне, или он и правда передернул плечами?
— Я думаю, тревога объявлена по всему району. Они знают, что вы покинули поезд около переезда в Фуйаке два часа назад. Вас ищут. Далеко вам не уйти.
— Я знаю. Поэтому мы и пришли сюда.
Он взметнул широкие рукава сутаны, голос его стал резче:
— Это невозможно, друг мой. Вы же знаете, какие неприятности пришлось после Освобождения пережить монастырям, которые укрывали так называемых… коллаборационистов. Пресса вылила ушаты грязи на весьма почтенные братства.
Опять вспорхнули рукава.
— Я не имею права рисковать и ставить под удар интересы высокого дела, которому я служу. Мне очень жаль. В прежние времена…
Он снова взмахнул белыми крыльями, отгоняя мысль о прошедших временах, которую, однако же, проводил глубоким вздохом.
— Позвольте нам остаться только на день. Ночью мы пойдем дальше.
— Это полное безрассудство, мой мальчик. Отсюда до испанской границы триста километров. Во время войны здесь было мощное партизанское движение, и все местные жители…
Я молча слушал его благие увещевания. Страх, досада или угрызения совести делали его голос визгливым и ломким, рукава так и летали.
Читать дальше