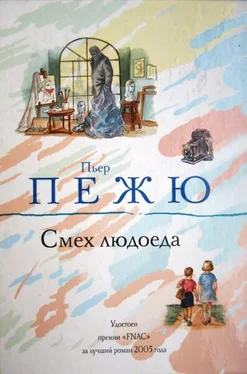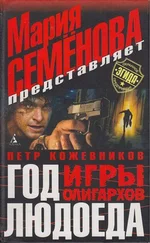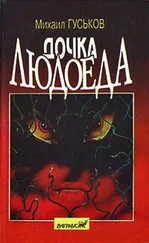Позже, когда солнце внезапно проваливается за ели, блаженное состояние меня покидает, и я тоже возвращаюсь в Кельштайн, стараясь не вспоминать страшный рассказ Клары. Добравшись до роковой развилки, я пускаюсь бежать со всех ног, чтобы не догнали лесные призраки, я боюсь встретить потерявшихся детей, задушенных брата и сестру, бывших солдат, ставших безумными и преступными отцами, или странствующего рыцаря с его псом.
ПАМЯТЬ РУК
(Украина, 1941 год)
Простояв в городе несколько недель, немецкая армия, наконец, покидает Краманецк. Быстроходные приземистые танки уже далеко. Они устремляются к горизонту, к возможному бою — говорят, враг готовит контрудар. За ними идут тяжелые грузовики с людьми и противотанковым оборудованием. Мотоциклы проворными насекомыми носятся взад и вперед между этим передовым отрядом и тылами.
Затем город покидают пехотинцы. Они прожили несколько мгновений, зависнув посреди войны и пространства. Теперь им предстоят долгие трудные переходы — пехота должна поддержать танковую атаку. Наконец, с места трогается большой обоз, лошади едва не падают под грузом продовольствия, от них идет сильный запах пота и навоза, поднимается странный, неприятный, желтоватый пар.
Доктор Лафонтен с заднего сиденья машины, помеченной огромным красным крестом, смотрит на идущих в бой людей. Шофер ведет машину слишком быстро, ее то и дело заносит, и все же они обгоняют эти нескончаемые колонны. Здоровые, крепкие, загорелые парни, вооруженные до зубов. Кто из них сегодня к вечеру или завтра останется лежать бездыханным? От кого останется лишь истерзанная плоть, глубокие раны и боль?..
На рассвете они выглядят сильными и решительными. Несколько выстрелов — и они превратятся в детей. Сломленные существа с непонимающим взглядом. Лафонтен это знает. А пока солдаты маршируют. Грохот бесчисленных пар сапог по твердой, утоптанной земле, металлический звон тысяч касок, подвешенных к поясу и колотящихся о чехол противогаза. Они не поют. Маршируют молча.
Небо у горизонта почернело. Что это — уже дым сражения или надвигающаяся гроза? Поднимается ветер. Русская пыль, проникая через окна машины, запорашивает глаза, забивается в ноздри. Лафонтен прикрывает рот белым носовым платком, то и дело протирает очки. Съежившись, ждет, что будет дальше.
Он так больше и не видел Морица, должно быть, тот ушел далеко вперед, может быть, уже встретился с врагом. Но Лафонтен выяснил, что случилось с детьми. Он узнал, что их убили по приказу эсэсовцев, что грузовики Морица увезли их в лес совсем рядом с Краманецком и передали в руки украинских полицаев, дожидавшихся маленьких смертников у наскоро выкопанной ямы.
Морицу пришлось подчиниться приказу, полученному перед самым уходом. Последний расстрел, быстрый и незаметный: солдат, молодых парней и отцов семейств, оставили в неведении, ничего им не сообщили об этой операции, дали возможность поверить — если им этого хотелось, — что детей пощадили.
У Лафонтена горечь во рту не только от пыли. Лежащий в нагрудном кармане блокнот совсем легкий — до чего же он невесомый в сравнении с тем узлом из стальных тросов, который теперь заменяет ему сердце. Но больше всего сегодня утром ему мешают его собственные руки, он не знает, куда их девать. Они отяжелели, его руки, и словно изуродованы воспоминанием о тех движениях, которые им пришлось проделать, когда он схватил и приподнял Клару. Да, эти грязные лапы фальшивого врача подхватили ее легкое тельце под мышки, под хрупкие крылышки перепуганной птички, вытолкнули ее из зала, заставили встать среди идущих на смерть женщин. Да, руки Лафонтена проделали все эти жесты убийцы по доверенности. А у рук есть своя память! Цепкая, плотная, грубая память, зудящая на поверхности кожи, въевшаяся в плоть ладоней, дергающая каждый нерв, каждую жилку, расползающаяся вдоль потных линий жизни, забивающаяся под каждый ноготь грязными воспоминаниями. Надо постоянно чем-нибудь занимать эти руки, слишком хорошо помнящие о совершенных преступлениях. Находить для них какие-нибудь мелкие дела, например, почесать макушку или затылок, поиграть трубкой или коробком спичек, побарабанить по чему-нибудь железному. Если мы, на беду свою, позволим нашим раскрытым и праздным рукам подняться перед лицом и начнем разглядывать свои десять пальцев, едва пошевеливающих уличающими фалангами, мы сразу поймем, что леденящие душу воспоминания хранятся вовсе не в голове у нас, они — в непристойной плоти этих рук. Каждый отпечаток пальца — словно печать, удостоверяющая, что зло совершилось.
Читать дальше