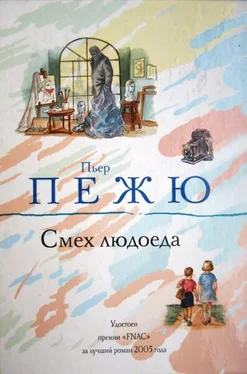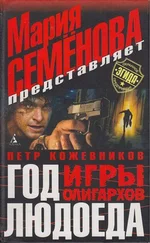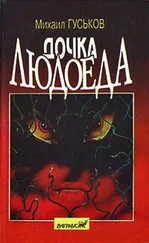— Знаешь, она в прошлом году покончила с собой? — говорит Клара. — Это Мэрилин Монро! Посмотри на ее тело, ее кожу, ее волосы. По ее улыбке видно, как она несчастна. Говорят, она наглоталась таблеток…
Какой контраст между кошачьим, скупо очерченным силуэтом Клары и этой голливудской куклой из плоти, едва прикрытой алой тряпочкой. И все же между этими двумя существами, от которых я внезапно почувствовал себя бесконечно далеким, существует таинственное сходство.
В комнате, куда более просторной, чем все те, в каких я жил с детства, вижу белый прямоугольник экрана, подвешенного на металлическом треножнике, и, немного в стороне, одинокий и сверкающий проектор с его пассиками и бобинами. На столе — все необходимое для монтажа и целая гора пленки.
Клара без всякого стеснения усаживается на ковер, прислонившись к кровати, развязывает черные шнурки на моей папке с рисунками и говорит:
— Мама целыми днями играет на пианино… Она мечтает, все время витает в облаках…
— Она музыкантша?
— До войны, когда была совсем еще молодая, давала уроки музыки. Но давно уже уроков не дает, играет только дома, сама для себя… Папа говорит — пусть играет, сколько хочет. Ей лучше становится от музыки. Но и очень больно тоже! Она играет одно и тоже: сплошной Бах!
Но, поскольку Клара произносит «Вагг…», я морщу лоб, а она хохочет:
— Ну да… Bak! Bak! Вы ведь так это произносите по-французски!
— А сад? Все эти розы?
— Розы — это все папа. Когда он не ходит к больным, то ухаживает за своими розами, подрезает их, возится в саду до темноты.
— А ты, Клара?
Она улыбается, дружески кладет мне руку на колено.
— Ну, я… это другое дело, — отвечает Клара, открывая папку с рисунками.
— Ты снимаешь кино…
— Сейчас — да. Я ищу. Ты, наверное, тоже, когда рисуешь?
Меня немного задело то, с какой скоростью она перебирает рисунки, которые я вымучивал долгими часами, — словно тасует колоду карт. Мелькают деревья с ветками, похожими на когти, и корой, из которой смотрят странные глаза, изуродованные головы со склизкими тварями, насекомыми или другими головами вместо волос, разбитые памятники с растущими из камней корнями, наброски со случайных предметов, совращенных и переученных, движимых диковинными намерениями.
Вижу, что Клара задержала взгляд на лодке, которую я рисовал на берегу Черного озера в то самое время, когда она меня снимала.
— Сейчас увидишь, — внезапно произносит она.
И Клара, отложив в сторону мои рисунки, задергивает занавески и насаживает на проектор бобину с пленкой. Проектор начинает жужжать, и на светящемся в полумраке прямоугольнике появляется эта странная лодка, снятая таким крупным планом, что карандашные штрихи превращаются в веревки, а мои пальцы — в снующих взад и вперед чудищ, опутывающих ими утлый челнок. Потом на воде среди тростников закачалась настоящая лодка. Затем появились узнаваемые фрагменты спящих тел: уши, пальцы ног, ноздри, ляжки, но больше всего сомкнутых век и неподвижных губ. Залитая солнцем сияющая нагота, сверкающие капли воды на нагой плоти, словно в сказке, скованной сном. И снова настоящая лодка, она наполняется водой и начинает погружаться. Эти планы чередуются с закрытыми глазами и мечтательными улыбками. И, наконец, картина гибели. На мгновение появляется моя лодка-гроб — и дальше ничего. Маленькая бобина крутится вхолостую, коротенький пленочный хвостик трепещет в пропахшем нагретой пылью воздухе.
Фильм странный, но Клара, не дожидаясь, пока я что-нибудь скажу, снова заряжает проектор. Кельштайн, снятый с верхней точки в дождливый туманный день. Колокольни, домики, крепостная башня окутываются дымкой, тонут в темноте. Рухнувшая стена. Крупным планом — пустые глазницы бойниц. Крупным планом — раны трещин. Ржавый металл ворот, погнутые прутья ограды, страшные крючья, торчащие из зарослей. Потом быстро сменяют друг друга нарисованные на фасадах домов улыбающиеся люди с серпами или виноградными гроздьями в руках. Светлые косы, букеты цветов, все расплывается в белизне. Камера внезапно опускается, крепость с нижней точки, смутная угроза. На экране мелькают жители Кельштайна, Кларина камера переходит на замедленную съемку: они едва успевают махнуть рукой и смущенно улыбнуться, прежде чем обратиться в тени, призраков, а потом мы видим засовы, оконные решетки, железные кольца. Экран темнеет, но мне кажется, что я различаю на нем длинный коридор дороги в лесу. Пятнышко света, как в перевернутом бинокле. И вдруг камера останавливается, объектив медлит, нацелившись на большой дом с запертыми дверями и ставнями посреди заросшего сорняками сада. Вскрытый почтовый ящик. Веревки от качелей свешиваются в пустоту… И железная дорога — камера по рельсам и шпалам добирается до черного входа в туннель.
Читать дальше