— Там, в холодном помещении.
Майор подсел к столу, постучал ногтями по дереву (так делал кто-то из больших чинов в каком-то кинофильме) и спросил немного не своим голосом:
— Вам не стыдно?
— Это чего же мне стыдиться?
— В глаза Советской власти, народу смотреть не стыдно?
— Это вам? Вроде бы не очень.
— Значит, то, что народный комиссариат в третий раз вас вынужден арестовывать, — плевать на это?
Кучера хотел ответить этому толстогрудому и толстозадому, как баба, хмырю, но глаза его встретились со взглядом дочери, он сразу обмяк, плечи опустились, промолчал.
Майор неловко повернулся, и тут же воротник задел проклятую бородавку — это помешало Короткому посмотреть, вникнуть, чей кашель глухо прозвучал где-то за печкой. Но с печки донесся голосок (ах, вот кто это!):
— Не обижайте дедулю. Я папке скажу.
— Ты там где? У, какой грозный! Покажись, казак. А где твой папка?
— Папа придет и вас набьет! — Павлик грозит из-за печной трубы, не открываясь врагу. Толстый дядька его не видит, а мамка, лежа на подушке, делает страшные глаза, аж смешно. Пообещал толстому:
— И за мамку набьет.
— Скоро внучек, скоро татка придет, — вмешался старик и пояснил майору: — Кого увидит, сразу: мой папка! Вы уйдете, будет всем рассказывать, что у него папа военный, в ремнях весь.
Франц, задавив в себе предательский кашель, лежал в своем пенале на топчане, им же сколоченном, лицом в ладони. Видимо, древесная пыль, вдохнул неосторожно.
Вслушивался в разговор за стеной, в стуки, шаги, старался поймать голос, хотя бы стон Полины, но ее как бы и нет там — что, что происходит, зачем они приехали? Голоса: отца и незнакомый, такой уверенно командный, военный — только они слышны. О «немце» вроде бы ни слова. Тогда что их привело? Почему так наседают на отца, чем он провинился? Их здешняя жизнь, с которой Франц и знаком вроде бы, но и не знает совершенно. А потому невольно ищет аналогии с тем, что уже было. И что было бы, могло быть, если бы это в Германии происходило. Когда прозвучала во дворе автоматная очередь и завизжал пес, а Франц еще только приподнял хитро сделанную стенку, чтобы заползти в свой «пенал» (или гроб — называй, как тебе больше нравится), ему показалось, что все вернулось к тому моменту, когда из дома, потом сгоревшего на этом самом месте, вот так же уползал в нору. С Полиной, со старухой. Тогда было ощущение обвала, катастрофы, но разве мог предположить, какие еще испытания ждут? Его и еле знакомую тогда девушку. Но это была война, все думалось, все надеялись: вот закончится война! только бы кончилась и остаться живым вместе с близкими твоими! Она позади, война, — для всех, кроме Франца. Даже для рухнувшей Германии и, если живы, для родителей — закончилась. Как бы там теперь ни было, какая-то определенность наступила. У Франца именно этого нет, определенности. Своя жизнь оборвалась, а та, которой он живет, — лишь примеривание к чужой, натужное старание удержаться на плаву, не пойти ко дну. Держится игрой случая да еще волей этой поразительной девушки-женщины, которая встретилась ему на пути. Но лишь до того момента, как узнают, что никакой он не немой, а немец. Тотчас Полину с детьми и его отнимут друг у друга, а дальше — какая разница, какую судьбу предпишут ему здешние законы, порядки? В лагерь ли, в Германию ли? Но у него есть и в Германии семья: отец, мать, сестры. Остаться навсегда здесь — потерять их. Если уже не потерял. Старый Кучера показывал ему журнал с фотографиями: что осталось от немецкого Дрездена и японского города Хиросима. Черные руины, пустыня.
О чем же они так сердито, даже грозно беседуют со стариком, если не ради Франца прибыли? Чего-то ищут: слышно, как топают по потолку, над головой. Что, тех самых беглых полицаев, дезертиров разыскивают?
Были минуты, когда Францу все-таки хотелось, чтобы его нашли, и кончилась бы неопределенность, неприкаянность. То, что мучило все время, в эти минуты стало невыносимо: он оторван от Фатерланда, но и эта страна — что он для нее или она для него? Да, Полина, дети — вот-вот встреча со вторым ребенком — но, оказывается, даже этого мало человеку. И не только какому-нибудь индусу: там, если изгнан из касты (читал про это) — ложись и помирай! Тебя нет, повис над пустотой. Умирают, тихо, безропотно.
Понимал: вызревает мысль, предательская по отношению к Полине, к собственным детям, но что может человек, если любой его шаг навстречу собственным чувствам, — уже предательство. Тогда, в первой норе, прятался предатель Германии, фюрера. В этом пенале-гробу затаился некто, готовый собственных детей предать. Но вдруг так захотелось ему оказаться, пусть за колючей проволокой, но со всеми вместе. С немцами. С теми, кого еще недавно страшился больше всего на свете. Но все переменилось: они в плену, они страдают, погибают от болезней, голода. И все равно счастливей его. У них есть надежда вернуться в Германию. Ну, не казнят же его советские власти, если объявится, выйдет из укрытия? Он же спас их людей, он убил нациста. Должно же что-то значить это для них?..
Читать дальше

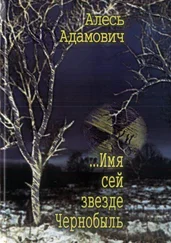
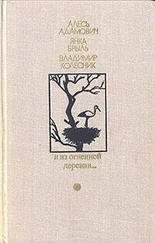

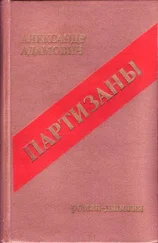
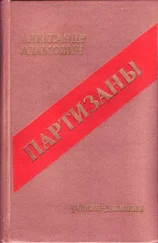



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


