Немало времени минуло, и вдруг загудело, и снова закричали, непонятно, радостно. Полина в ужасе, в отчаянии терла глаза, стирала кровь, липкую теплую пелену, чтобы увидеть, чтобы смотреть — щемило лицо, кожу на левой щеке, на шее и лбу, правым глазом чувствовала свет, но и только.
Потом около нее зазвучали забыто спокойные человеческие голоса, кто-то трогал ее лицо мужскими, с запахом табака, пальцами, просили ее убрать свои руки.
— Правый цел, кажется… — услышала она. Крепко запахло аптекой, чем-то холодным-холодным смочили лицо. Она крепко зажмурилась, все надеясь: вот сделают так и так, откроет глаза и будет видеть. И правда — правым разглядела высокого военного в серой шинели, неправдоподобно толстую женщину в белом халате поверх телогрейки.
— Перевяжите — и на машину. Остальное потом, — приказал военный и отошел к другим.
С машины и разглядела Франца. Лицо ее, голова уродливо и тепло обернуты ватой, бинтами, но один глаз открыт. Увидела: стоит позади всех, взгляд тупо-растерянный, нет, как у забытого, потерявшегося ребенка. Вид страшный. Как бы теперь только это увидела по-настоящему. Толстая женщина в халате нетерпеливо обернулась на ее вскрик:
— Ну, что там? Вы кого зовете? Муж? Это какой, кто? Немой? Где тут немой? Кто муж этой женщины? Давайте его на эту машину.
Когда учился в Минском университете, в нашей комнате по улице Немига были одни лишь фронтовики и недавние партизаны. Как и во многих других комнатах. Наша особенно знаменита была баянистом — Иван Иванович с физмата. Все коридорные танцы метелили под его музыку. На свадьбах репертуар Иван Иванович выдерживал строго классический. По одному уводили невесты-жены наших фронтовиков-партизан, и провожал их в семейную жизнь Иван Иванович маршами: из «Аиды», из «Фауста». Лишь потом, позже мы это услышали в исполнении симфонических оркестров.
А вот на его свадьбе наших было мало. По-моему, не захотел нас видеть у себя. А точнее, чтобы мы увидели.
Лишь в день его погребения, Ивана Ивановича, — через долгие годы — я увидел его жену, побывал в квартире. Лежал он в гробу в столь непривычном на нем костюме (всегда ведь в черной, все одной и той же, гимнастерке), а на стуле возле него сидела женщина, все время полуотвернувшись. Я знал, мы знали, а тут я впервые рассмотрел: щека черная, как остается от близкого взрыва, глаз один жутковато неподвижный, вставной. Ей самой, возможно, было безразлично, как она смотрится, отворачивалась же (вдруг подумалось): ради покойного. Раз он не звал нас к себе, значит, не хотел, чтобы видели.
А ведь знали его историю, на редкость романтичную в наше не столь уж романтичное время. Помню, я переживал ее почти со слезой, когда однажды услышал. Сам он и рассказал. В группе подрывников, которую Ваня водил на «железку», была (или в тот раз оказалась в ней, возможно, сама напросилась, это бывало) молоденькая девушка. Когда уходили после подрыва эшелона, убегали, она напоролась на мину. Несколько километров он нес ее на руках. Вспоминая, сказал: «Прижалась, худенькая, дрожит, как дитя»… Вот эта память их и поженила. Наверное, он гордился своим поступком: не тем, у железной дороги, а послевоенным. А были или нет счастливы — кто знает? Было горе на лице вдовы, но доброты, кажется, не много. А Ваня и запивал сильно, и все время туберкулезом болел. Сын их попал в тюрьму, на похоронах отца его не было.
Если бы за все хорошее воздавалось полной мерой — было бы просто жить. А жизнь не проста.
На спаде (или как говорят белорусы: на сконе) лета 1944 года над размытыми и поросшими лебедой пепелищами Петухов разносился одинокий звук. Негромкий, вялый, какой бывает, когда стесывают кору, звонкий, сухой, когда прямо на срубе высекают канавку, чтобы уложить мох — для соединения со следующим венком бревен.
На опушке леса стоят двое и вслушиваются. Впрочем, их трое — на руках у женщины, завернутый в грязный марлевый лоскут, спит малыш. И косынка на голове у женщины марлевая, от этого особенно заметны черные крапинки на изуродованной левой щеке, на лбу. У ног мужчины армейский вещмешок, сам он в русской шинели, для него короткой, она вся в бурых пятнах, заношенная.
— Это татка, мой татка! — шепотом восклицает женщина. — Я как голос его слышу.
— И пришли они в Вифлеем…
— Мне не верится, что мы снова здесь!
— И пришли в Вифлеем, потому как велел Август отправиться каждому туда, где родился. Иосиф пошел записаться с Мариею, обрученною ему…
Читать дальше

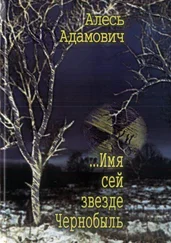
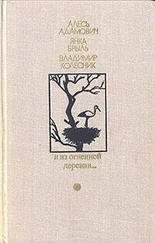

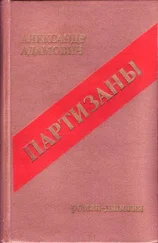
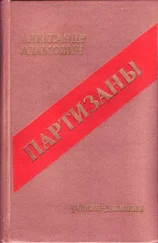



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


