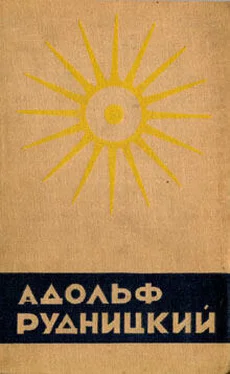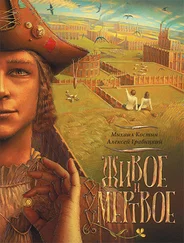Эмануэль слушал, опустив глаза.
— Нет, я не отдам моего единственного сына! — вдруг истошно воскликнула старая женщина. — Я спасала его не один и не десять раз. Он давно бы лежал в сырой земле, если бы не я. Оттуда, — она показала на окно, — мы вышли каналами. Сперва скрывались на Грохове, потом на Боернерове, в развалинах. Двадцать четыре часа мы простояли не шелохнувшись в углу. Чтобы не умереть с голоду, я была вынуждена побираться. Думаете, для себя попрошайничала? Я могла в любую минуту принять смерть, вот столечко не связывало меня с жизнью, — она показала кончик пальца. — Как-то на Хлодной я постучалась в дверь, чтобы попросить кусок хлеба. Женщина, отворившая мне, вытаращила глаза: «Франя! — крикнула она. — Франя! Погляди, кто пришел». Я не хочу второй раз в жизни услышать такой же голос. Однажды уже в сумерках кто-то бросил нам в укрытие бутылку с бензином и тут же поджег ее. Ночью мы перебежали в кустарник. Чудовищно обожженные, мы легли рядом на земле. Я, пожалуй, покончила бы тогда с собой, так велики были мои страдания, но я повторяла себе: «Ты мать, ты должна спасти свое дитя». Говорят, что все страдали! Нет, страдание страданию рознь. Не знаю, где вы пережили войну, оставались ли на родине, а если оставались, были ли там . А может, прятались у знакомых и единственное неудобство, которое испытали, заключалось в том, что не выходили на улицу или получали невкусную пищу. Может, на вашем счету значатся потери, из-за которых нет смысла торговаться и которые вы уже давно забыли. Но есть боль, которую невозможно забыть. Не знаю, какое у вас сердце, ибо только то, что оставляет в нем след, достойно называться переживанием. Разные бывают сердца.
Воцарилось молчание.
Эмануэль по-прежнему сидел, уставившись в стол. По мере того как Регина Борковская говорила, он чувствовал, как по всем клеткам его тела словно разливается жгучая кислота. Регина Борковская заживо сдирала с него кожу. Он давно не слыхал подобных историй.
От той эпохи его отделяла с таким трудом воздвигнутая новая жизнь.
— Это было в то время, когда жгли гетто, — продолжала свой рассказ старая женщина, равнодушная к его переживаниям. — С воли уже пригоняли на работу целые колонны землекопов. Мы пухли с голоду, прятались в лестничных клетках. Решили подбрасывать записки о том, что голодаем и просим хлеба. Думали, как их подписывать. Мы знали: если хотим получать хлеб, надо скрывать, кто мы такие. До последней минуты, глядя смерти в глаза, нам приходилось скрывать правду. Как беспредельна должна быть эта ненависть. Нет! Ничего не говорите мне! Молчите!
«Боже мой, что говорит эта женщина», — думал Эмануэль. Ему все время хотелось крикнуть, чтобы она замолчала. Однако он так и не крикнул, поднялся, вышел в ванную и смочил виски́ водой.
Когда несколько минут спустя он вернулся в комнату, Регина Борковская сидела все такая же черная, зловещая, трагическая.
— Значит, вы разрешаете мне дать объявление? Не так ли? — снова начала она.
Он ответил не сразу. Собрался с силами.
— Я тоже, — неторопливо заговорил он, — пережил последние дни гетто. Всеми путями, которыми шли вы, прошел и я. Я вернулся туда на пасху в надежде отыскать семейные реликвии, которые сам закопал. Восстание в гетто отрезало мне путь назад, и я видел собственными глазами, как гетто стирали с лица земли. Я видел, как подтаскивали орудие и обгоревшие остовы зданий взлетали на воздух. Я проклинал ту минуту, когда спустился в подвал, где от духоты гасли свечи, мужчины сидели в трусах, а женщины чем попало прикрывали бедра и грудь. Я худел и дичал. У меня болели глаза, руки и ноги отказывались повиноваться. Хотел бежать, но меня не пускали, боясь, что фашисты обнаружат вход в укрытие; если вы там бывали, сами знаете… С рассвета до ночи я лежал без движения, без пищи, не отправляя естественных надобностей. От всех напастей было лишь одно лекарство — тишина. Ел по ночам, ночью же забывался на несколько часов сном, чутким и непрочным, словно паутина. Когда меня будили, мне всегда казалось, что я задремал лишь на минуту. Как-то меня растолкали днем. « Они наверху». Отчетливо доносилось постукивание кирки о брусчатку двора. Вокруг — тьма, даже свечка, которая обычно теплилась, погашена. Я чувствовал, что уже никто не спит. Люди, стоявшие подле меня, дрожали. «Только тихо, — шептал кто-то рядом, — только тихо». Вдруг со стороны люка дали сигнал: «Газы!» Все сразу же почувствовали сладковатый вкус газа, заползавшего в рот, глаза, уши.
Читать дальше