Итак, мы покинули столовую.
Я многое пропускаю, потому что очень тороплюсь, пока отвращение, которое я испытываю к своему рассказу, не сделалось неодолимым. Коридор кончался деревянной лестницей вниз. Свет шел из круглого окна наверху; пыль мерцала в воздухе; стены были кофейного цвета. На лестничной клетке мы увидели призрак барона. Он стоял недвижно лицом к стене. Две-три разрозненные вилки, как карась в крапиве, сонно шевелились у него под ногами. Сквозь барона было видно небольшое тондо, на котором изображалась сельская сцена между пастушкой и увивающейся вокруг нее пчелой, расцвеченная теми розово-перламутровыми и лазурными тонами во вкусе Буше, которые, по-видимому, призваны возбуждать сладостные ощущения, однако вследствие чрезмерной определенности в самих себе обладают жесткостью почти геральдической. Понужденный смертью к безусловной откровенности — поскольку телесный покров, служивший умолчаниям, уже не скрывал никаких движений души, навсегда лишив ее способа удовлетворять требованиям благопристойности, — барон давал видевшим его редкую возможность созерцать вещи сквозь чужие помыслы столь же ясно, как сквозь свои собственные; его скупо клубящаяся туманность, в недрах которой проходило концентрическое волнение, как в бочке с дождевой водой, если шлепнуть ей в бок ладонью, нарушала пропорции предметов, осененных ее приближением, и из-за этого история пастушки и пчелы казалась более драматической, чем ее задумал художник. Пчела, вьющаяся вдоль рамы, оптическим искажением была увеличена втрое и замыкала картину слева; пастушка с епископским посохом, повязанным кар минной тесьмой, равномерно уменьшилась, и теперь деловитое равнодушие одной из них и жеманный испуг другой казались не законченным содержанием картины, но лишь ее прологом, за которым следует похищение, вознесение в сияющие небеса, звон перегруженных крыльев, осиротевшее стадо внизу и бесконечное, как летний полдень, заточение в восковом карцере на правах почетной гостьи пчелиного царя. Тот, кто видел это, впоследствии, наблюдая пчел или пастушек, неизменно будет вспоминать о привидениях, в несообразности этого воспоминания черпая удовольствие, которого он не сможет удовлетворительно объяснить. Ему также придет в голову, что в том чистом и лишенном очертаний краю, куда барон будет в конце концов доставлен надзирающими за ним силами, для него была бы отрадной мысль — если и отрады, и мысли будут за ним сохранены — что здесь, на этой кофейной стене, красивая пастушка, вспоминая его последний визит, скажет пчеле тем беззвучным, перламутровым языком, что даровал ей создатель: «Какой обходительный человек, он не забывал меня навестить».
Мы прошли по лестнице у него за спиной, стараясь ступать неслышно. Не знаю, что он делал, когда мы спускались дальше, — я не оборачивался.
Простите этот сумбур — головная боль ему виной. Я выглянул было в окно, но на месте погоды было что-то, не заслуживающее поощрения со стороны мыслящего человека, и, не имея возможности для прогулки, я писал, чтобы развеяться. — Кв.
20 ноября
Дорогой FI.,
мой рассказ близится к концу. Спустившись по деревянной с широкими перилами лестнице на два длинных пролета, мы оказались в тесном коридоре, с низкими потолочными балками и слезящейся штукатуркой, под которой местами обнажался бурый кирпич, По моим предположениям, этот коридор проходил несколько ниже уровня цокольного этажа, и чтобы достичь холла со звериными головами, нам предстояло найти небольшую лестницу вверх. Коридор не был прямым, и на очередном его повороте перед нами блеснул свет, шедший вместе с прогорклым запахом из приоткрытой двери. Мы заглянули в нее. Небольшая комната, оклеенная коричневыми обоями, освещалась четырьмя-пятью свечами, вокруг которых стоял оранжевый ореол. Окон не было; под потолком тянулся ряд вентиляционных отдушин. На стене висели часы, так покосившиеся, что надо было очень скривиться набок и выгнуть шею, рискуя сильным приливом крови к голове, чтобы понять время. Я коснулся рукой влажной стены; что-то отбежало по ней в безопасный угол. На простом деревянном столе лежал десяток курительных трубок. Мы поняли, что запах, встретивший нас при входе, был застоявшимся запахом трубочного табака нескольких сортов. «Так это курительная», — сказал Филипп, разочарованный, что этот вертеп имеет человеческое назначение. Трубки были черешневые, с длинным чубуком, костяные, из темного дерева с резьбою. Одна изображала какое-то длинноносое лицо с закрытыми глазами. Скудный дымок тянулся из ее жерла, точно на покинутом стойбище. «Как будто ее только что бросили», — заметил Филипп. «А я ведь курил когда-то», — заявил он и, взяв трубку, приложил чубук к губам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


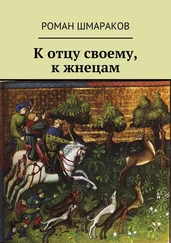
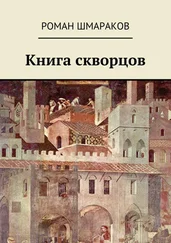
![Петро Яценко - Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи]](/books/182049/petro-yacenko-derevo-bodhІ-povernennya-pridurkІv-r-thumb.webp)
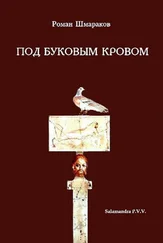
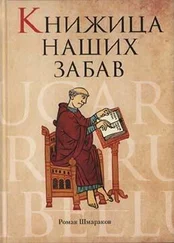
![Роман Шмараков - Автопортрет с устрицей в кармане [litres]](/books/398251/roman-shmarakov-avtoportret-s-ustricej-v-karmane-l-thumb.webp)

