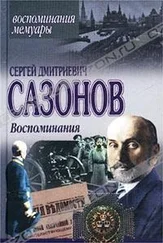Встретил ее на улице.
— Ты мне жизню крушить не моги, — говорю ей. — У меня одна тропа, но она никогда не приведет к бабе!
Это я, конечно, для форсу, несурьезно так говорю, для зачину.
— Люб ты мне, Захарушка. Любы мне глаза твои чистые!
— Ворожила, поди?!
— Ворожила, родненький. Звала все к себе. К небу, к солнцу, к дождю, к туману звала, чтоб привели тебя. У птиц, у зверя, у гадов пытала, где ты, Захарушка.
А сама все смеется. Звонко-звонко, а до этого — ни-ни! Не улыбнется парням. А что я с ней буду делать, сидеть околь ее связанный, горшками ворошить. «Люб ты!» — и весь у них закон. Все бабы — ведьмы. На вас звериным глазом смотреть надо, не то любовью своей завяжете в мешок и в глубины…
— Но… папа… ведь вы любили матушку? — спрашивает мама.
— Любил?! Ха! Как бы тебе сказать, доченька. Она… Дарья… тайгу, простор от меня отнять хотела… Что вам, бабам, нужно? Гнездо, дупло али нору! Пуху натрясете, и гнездо готово. Сиди в нем филином. И не перебивай меня, ежели я в воспоминаниях. Даже некрасиво. Ну, вот… И решил я ее больше не видеть, заказать, чтоб не тревожила меня и не попадалась на пути…
— На пути?! — чуть не задохнулась мама. Отец поднялся из-за стола и долго чиркал спичками, пока не прикурил. Только пиликал свое сверчок да девчонки попискивали под одеялом. — За любовь? Не попадись? Как так?
— А чего… очень просто! — протянул дедок. — Говорю ей: «Давай встретимся!» — «Давай, Захарушка, давай, родненький. Приходи на кладбище в полночь!» Видал — ведьмино отродье?! Над рекой али на поляне, где все табунятся, не хочет, а на кладбище «давай»! Ну, думаю, там она меня в овраг спихнет… али я ее туда.
— А за что же все-таки? — в упор спрашивает отец, Василь Захарович. — Это у меня в голове не укладывается.
Дед долго-долго молчал, и дым волнами прошелся под потолком.
— Молодая, глупая была, — всхлипывает бабка. — Кабы знала, что жизнь вся в узлах пойдет, разве бы ворожила, господи!
— Так почему же? — на всю комнату грохнул отец.
— Я, веришь-нет, Вася, в первый раз сердце тяжелым почуял. Повисло оно внутри меня соборным колоколом и загудело в тревоге. Чуял я, что с любовью такой мне не совладеть. Не буду я в той любви, как в пирушке, хозяином. Переломит меня Дашка силой своей, жадностью своей к доброте, а я в то время злобу копил, боялся расплескать, желал, чтобы та злоба черной тучей, мглой была безглазой, а не туманом легким, зыбким. Вот отчего. А ежели — Дашка, так перед ликом ее я должен свечу яркую зажигать, тогда мне развеет тьму, и меня тогда не станет. Отступаю я тогда. Дупло во мне останется, и все тебе. Вот почему я сердце на цепи, в кандалы забил.
— Не сердись, папа, — рукой касается его мама, — не сердись, родненький. Сказывай дальше…
— Ну вот, — дед выдохнул, будто влез в гору и оглянулся на пройденный крутой путь. — Ну вот, собрался я на охоту, думаю, заодно и с ней встречусь. В полночь, когда вся нечистая сила шабашит, вот когда она мне встречу назначила. Еле полночи дождался, аж взопрел. Зарядил ружье пулей, припасы все проверил. А тут тучи все небо замкнули, дышать тяжело. И земля горяча, как сковородка раскаленная. Сердце свое твердым держу, говорю ему: «Не раскрывайся».
Дождик капает помаленьку, капли падают крупные, ветер волком взвыл. А когда к кладбищу подходить стал, гроза разразилась.
Молнии кошками огненными в небе взвиваются, рвут небо когтями пламенными, и сердце бьется мое. В глазах — мрак могильный. Никак ворожит, страхом обнять меня хочет. Иду как во сне, о могилы спотыкаюсь, мокрый не то от дождя, не то от страху. А сроду ведь не боялся!
— Захар! — слышу ее голос. — Захарушка, сердце мое изболевшее. — И плач со стоном. — Захарушка, голуба моя!
И только я голос ее услышал… как вдруг с земли-то поднялось что-то черное-темное, захлопотало, заметало крыльями и надо мной круги волшебные закрутило. Обернулась она во что, а? Вот ведьма!
— Захарушка! Люба ты моя! — И стрелил я тогда в тот голос.
Дед замолк и низко опустил темную голову. Тихо и зябко стало в горнице. Сверчок пиликать перестал, и девчонки под одеялом тихонько дышали во сне.
— Убил? — прошептала мама. — Убил?! — крикнула она, и брови взметнулись вверх, и пальцы сжались, как у птицы.
А дедок расхохотался, загремел каким-то лешачьим голосом.
— Ее-то хорошо, если бы убил. Жива осталась.
— Промахнулся? — с надеждой спрашивает мама и тянется к деду.
— Промахнулся, как же… — с грустью отзывается дед. — Так мать это Васькина, бабка наша Дарья! Из Сибири ее привел в родимые свои места.
Читать дальше