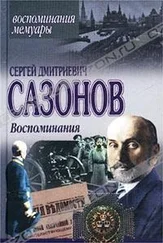— Это он, Захар Васильич, — отвечает дружок, — это он от веселости своей души. Погодь, вот он парнем станет, он тебе ужо не курей щупать будет.
— Тогда чегон-то ево драть продолжать, а? — теряется дедок. — Сыромятину с него спускать?
И он драл меня с любовью и приговорками, потребляя материал гибкий и прочный… Дед презирал бабкин веник и предпочитал вожжи. Драл со вкусом, не торопясь.
— Много ты горя с ним хлебнешь, Захар Васильич! — так решили старички.
— Вот намеднись он яйцы украл… Голодный?! Нету… Жрет от пуза. Жадный? Вроде нет — недавно за жадность порол. Пошто он те яйцы украл?.. Кролика купить! Во!
— Пойдем, Захар Васильич, в правлению, зачем время задарма тянуть, — вновь подает голос измаявшийся Никанор.
Дедок неохотно сворачивает беседу, расстается с дружками, и мы двигаемся дальше по улице Абдуловке к Собачьему переулку. Никанор держится чуток впереди, затем я с полусонным Шариком, за нами пылит дедок. Подобрал по дороге болт, вытащил из кармана гайку, примерил, покрутил — подошла; заметил в траве ржавую проволоку, откинул ее, в сторону — запомнил место.
Давней моей мечтой было завладеть кроликом. Долго пришлось собирать пятаки, таскать тряпишнику бабкины юбки, галоши, рога и копыта, принялся воровать яйца, пока не накопилась сумма. Весной я купил крольчиху Машку, венскую, голубовато-дымчатую, мягкую, пуховую. У нее пугливая морда, с нервной разрезанной верхней губой и выпуклые чистые-чистые глаза, в которых затаилась тревога. Крольчиха прижимает лопушистые уши к спине и, подобрав задние ноги, не смыкает дрожащих глаз. А потом я украл красноглазого кроля. Вскоре Машка разбухла, как весенняя почка, тяжело вздыхала, тычась мне в ладони раздвоенной губой, тихо стонала.
— Что с тобой, Машка? — спрашиваю ее, а она лишь вздрагивает кончиками ушей и поблескивает перламутром красноватого глаза. Она достоналась до того, что принесла полтора десятка крольчат, слепых и беспомощных, как мышата. Скулили они и мерзли, залезали под брюхо Машки, копошились там и пищали. Шло время, крольчата подросли и поедают теперь охапки молочая, вьюнка и лебеды, очищают ветловые кусты и краснотал. В крольчатах все сгорало, как в паровозной топке, и все было мало… мало! Целыми днями я таскаю им свеклу, картошку, огурцы. Они грызут эти винегреты, съедают и пресное, и кислое, и сладкое. По всему двору кролики накопали нор и подземными ходами проникли в огород, к бабкиным грядкам.
Деда умилили косоглазые мордочки крольчат, дрожащая, пугливая настороженность глаз и набухшая вновь, неповоротливая Машка, что обещала вот-вот окотиться.
Два дня недоверчиво и осторожно подходил дед к норам, на третий принес травы, на четвертый — мешок картошки. А через неделю дед уже заразился кроликами. Стыдливо пряча глаза, тащит он кроликам молочай и капустные листья. Они съедают пырей и ботву, нападают стаями на огороды, множатся — двоятся, троятся, будто делятся они простым делением до бесконечности.
Перестал дед пить водку, заскряжничал и принялся утаивать пятаки и двугривенные, что бабка давала на покупки в магазин. Он бросил курить махорку и перешел на свой самосад, посадив полсотни корней.
Едкая вонь заливает комнаты.
— Это что ж? Плантацию, что ли, устраивать? Може, курить бросить? — спрашивает он у меня. — Али поголодаем как-нибудь, милок? Вот опять пятиалтынник на дороге нашел, — хвастает дедок, прячет денежку в старый валенок, за печку.
Бабка пересчитывает сдачу и, пересмотрев все покупки, клянет на чем свет стоит всю торговую сеть, продавцов и местную власть. В магазине она поднимает шумные скандалы, но продавцы, ничего не понимая, хлопают глазами.
— Как так! — кричит бабка, и глаза ее становятся круглыми от гнева. — Дед столь крови пролил за Советскую власть… а ево вчерась опять на двугривенник нагрели? Игде правда? Игде?
— Дарья… а Дарья, — начинает ласково дедок, — может, я в кооперацию сбегаю? Чего тебе там для хозяйства приобрести, а? Керосин, соль, мыло? Веревка у меня начисто сгнила, опять же вилы больно худые, давай-ка сползаю…
— Нехорошо, дед, воровать, — с торжеством говорю ему. — За воровство порол меня, а сам бабку обкрадываешь. Воришка ты! Бабаня-то слепым-слепа, не видит твоих чудес!
Дед смущается до слез, у него вспыхивает ухо и темнеет шея.
— Да я… я же… — залепетал он. — На крольчиху, на венскую…
Купили мы с ним крольчиху голубую, как дымок. Какая это была радость! Дед щерит темную пасть, чуть не ходит вприсядку, светится именинным торжеством.
Читать дальше