— Нет! — Ты начинаешь сомневаться в моих умственных способностях.
— У пушки колеса круглые, как у сушки, но со спицами.
— Да нет же! — кричишь ты. — Одна буква! «С-с-с» и «Ш-ш-ш»! — Тут же ты кричишь машинам: — Эй, машины, вы что, разве мухи, что вы шумите? Или комары какие-нибудь?
Тебе ужасно хочется шлепать по лужам, но это нельзя, и ты терпеливо их обходишь.
— Всех лучше осень, — говоришь ты, — спасибо осени, осенью можно по лужам ходить.
Мы приходим домой, моем руки, и начинается твоя бесконечная сказка про битвы с драконами, про похождения Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Мы поем самосочиненные былины о том, как обиделись богатыри на князя Владимира, что не посадил их за стол, а как потом напало на Киев Идолище поганое да засвистал дурным посвистом Соловей Одихмантьев сын, тогда пошли богатыри, обиды забывши, стоять за землю Русскую, за веру православную.
— Сколько голов у Змея? — спрашиваешь ты.
— Три, — говорю я, опасаясь, что если голов будет больше, то битва долго не закончится.
— Три, — говоришь ты презрительно, — три! Это и ты справишься. Сегодня двенадцать! Вот так вот!
Игрушек у вас с сестрой — на два детских сада. Но все равно их не хватает. Хватился ты коня, чтоб посадить богатыря коня, где конь? Нет коня. Тогда ты, непобедимый выдумщик, хватаешь кубик, часть архитектурного конструктора, и кричишь:
— Вот и пал конь Ильи Муромца! И схватил тогда Илья Муромец камень, отломил его от замка, превратил в коня, сел и поскакал!
Мы побеждаем. Ты вдруг говоришь:
— Ищи меня! Считай до десяти! — И убегаешь.
В большой комнате, которая становится маленькой из-за развала игрушек, появляется бугор из двух одеял. Под ним что-то шевелится. Конечно, ты. Но разве можно дедушке так сразу найти внука. Я хожу по квартире, честно заглядываю во все углы и горестно восклицаю:
— И тут нет! И тут нет! А тут совсем нет. А тут и не было.
Наконец ты высовываешь голову и сообщаешь:
— Я же клад. Меня надо откопать.
Мама приводит младшую сестренку. Тебе уже не до меня. А уж если еще и папа сегодня пришел пораньше, тут дедушка окончательно становится лишним. Я прошу тебя перекрестить меня на прощание. Ты обращаешься к иконам:
— Боженька, помоги дедушке найти дорогу, сделай такую милость!
На сердце у меня тепло и немного грустно. Но что грустить? Бог даст, наступит завтрашний день, и опять с радостью, бросив все взрослые дела, пойду за тобой.
Вдруг обнаруживаю, что заблудился. Конечно, ведь я же иду один, без тебя. Но ты меня перекрестил, благословил, и я обязательно найду дорогу.
Смотрел передачу об отверженных, о касте неприкасаемых, об их несчастьях. Вспомнил к тому же, как работал в издательстве и пришло письмо от прокаженного из лепрозория. На письме был оттиск штампа «Продезинфицировано». От конверта отдергивали руку. А это был обыкновенный отзыв читателя на прочитанную книгу.
А еще вспомнил, как и сам был отверженным. Это когда я был заразным, болел страшной болезнью, гулявшей после войны по нищете и бедности, — стригущим лишаем.
У братьев моих и сестер прекрасные, еще не седые волосы, а у меня и седые, и совсем редкие. Это не только от каких-то переживаний, но именно от этой болезни. Как она меня зацепила, не знаю. Хорошо, что быстро хватились и заперли меня от здоровых в заразный барак. Но там болезнь не вылечили, хотя долго чем-то мазали. Велели везти в областной город, иначе грозили, что я вовсе останусь без волос. Завязали голову, нахлобучили буденновский шлем, которым я очень гордился, не велели его снимать даже на ночь и отправили.
Повез меня отец. Ехали двое суток, с пересадками. В Кирове меня сразу отняли у отца, и потом я его не видел до выписки. Лежал я в большой, человек на двадцать, палате, ходил с замотанной головой. Первые дни меня водили на облучение. Клали в отдельной комнате на стол, обкладывали голову свинцовыми пластинами и уходили за стекло. Включали ток. Не велели шевелиться. Потом стали процедуры побольнее. Два раза в день медсестры вели меня в служебную комнату, разматывали голову, клали ее к себе на застеленные клеенкой колени, не велели вздрагивать и пинцетом выдергивали каждый отдельный волосок с корнем. Так полагалось — вырвать все волосы, которые не выпали сами от облучения. Дергали, пока не уставали или пока не надо было куда-то идти. Тогда мазали голову йодом, завязывали и отпускали.
В палате я привязался к раненому моряку. Он с войны болел гангреной, он потом, при мне, умер. У него были отняты ноги, и их все выше и выше отнимали. А гангрена опять ползла. Моряк сидел в койке и учил меня морской азбуке. Я потом долгое время гордился перед друзьями, что знаю многие морские сигналы, знаю отмашку флажками. «В кильватерную колонну», «Ко мне», «Прекратить стрельбу». Еще моряк пел песни: «Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд…» Я слушал и почему-то понимал так: «Любимый город, синий дым Китая…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

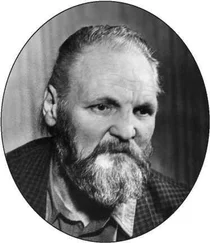






![Владимир Аренев - Время жестоких снов [сборник litres]](/books/435629/vladimir-arenev-vremya-zhestokih-snov-sbornik-litre-thumb.webp)
