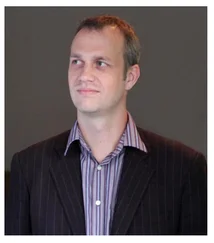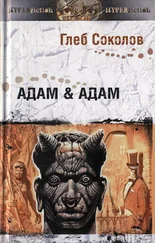Он любил, да, он любил Морин. Она была маленькая и крепенькая, с карими, близко посаженными глазами — от этого ее лицо только делалось привлекательнее, это вам не аккуратная среднестатистическая миловидность, застегнутая на все пуговицы. Морин было легко вспомнить. О ней было легко видеть сны, в которых она непременно сидела за фортепиано. Насколько ему было известно, Морин к фортепиано в жизни не прикасалась. Может, когда вернется, он уговорит ее хотя бы за него сесть.
А молоденькие немки иногда сами к ним приставали.
А что, разве не бежали они за машинами? Да сколько раз. Разве нет? Слишком мало местных самцов — кто погиб, кто на фронте, кто просто ударился в бега перед наступлением, а девушки изголодались, некоторые были очень милы, очень хорошенькие, готовые на все просто так, ради того, чего тебе никогда не понять, того, что, наверное, можно назвать утешением. Успокоением. Сочувствием.
Кто-то сказал бы: "сексуальный голод". Или еще похлеще.
Они всегда старались отдать что-нибудь взамен — печенье из НЗ, сушеные груши, банку тушенки. Перри, правда, еще ни разу не доводилось. Наверное, на него повлиял медицинский инструктаж — послушать врачей, так по эту сторону Атлантики сифилис у всех без исключения. Пакетики шипучки он раздавал детям, чернослив с ужина — старухам, сахар и сгущенку — женщинам с младенцами на руках. Отчасти причина была в том, что он был заросший, вонючий, грязный. Как только в городе будет вода, будут и ванны. Он хотел теплой пенной ванны и чистого белья и какой-нибудь волшебной сигаретки, которая прочистила бы ему желудок. И пуховую перину, чтоб после ванны можно было сладко проспать двое суток.
А потом горячий обед, что-нибудь полезное, что не произведет взрыва в желудке. И чистая родниковая вода, которую не надо кипятить и которая не воняет хлоркой.
Он так устал, что усталость казалась приятной. Если бы прямо сейчас у него перед носом случилась мировая революция, он бы укрылся с головой и уснул.
Даже винтовка тяжелая, чтоб ее разорвало. Вряд ли у него встанет. Ведь кровь нужна голове, где она бурлит и мешает провалиться в забытье.
Остальные, впрочем, именно этим, наверное, сейчас и занимаются. Прямо сейчас, скорее всего.
Моррисон, например, с той, которая искала какого-то Генриха. Наверное, все-таки Гиммлера. А они так и не догадались. Перри ухмыльнулся. Если на то пошло, он бы тоже с удовольствием разлегся на плоском животе какой-нибудь красотки. Болезни и грязь везде, от них никуда не денешься. Пусть зануды врачи языки чешут.
Тоненькая ниточка, которая вела к жизни — его собственной жизни после войны, — еще натянута. Стойкость проведет его по ней. И Морин сядет за фортепиано.
Он заерзал на груде обломков, посмотрел на часы. Двадцать три минуты. Время ползло мимо. Только мысли не отступали. Перри вытащил из нагрудного кармана две таблички: Waldesraus и mit Kanal. Обе под стекло. Внизу прошел один из старичков — рядовой первого класса из роты «Чарли», помахал рукой и что-то крикнул. Перри, как дурак, торопливо засунул таблички в карман, как будто это были ценные трофеи.
— Ты как?
— Нормально, угу, все нормально.
Ну и кому какое дело, у кого какое звание?
Нашивки — дерьмо собачье, мишени для снайперов. От его собственной осталось полинялое пятно на плече, которое, может, когда-нибудь кого-то введет в заблуждение.
Перри нащупал бутылку коньяку — здесь лучше не пить, слишком заметную точку он занял.
Да, здесь было хорошо, решил он, на этой горе, прислонясь к чьему-то сломанному столу. Стол как будто всегда и был сломанный. Будто бы все и всегда было сломанным. Завтра утром сразу после переклички он дежурит у раздаточной вместе с капитаном Кокрейном. Между возвращением на командный пункт и дежурством он свободен. На Перри накатила эйфория, как будто он снова вернулся в школу и прогуливал уроки. Это чувство не забылось даже спустя столько лет. Целых десять. Все-таки он ужасно молод.
Если, конечно, какой-нибудь сраный эсэсовский гондон не соберется отстаивать свое право на защиту своей живописной и изолгавшейся страны.
Надо решать, как поступить с этим прекрасным трофеем — снежными пиками и золотой долиной мистера Кристиана Фоллердта. Разберется, когда остальные напьются и завалятся спать. Хаос — лучшая маскировка.
Он женится, народит шестерых детей, и все благодаря мистеру Фоллердту. И еще огромный холодильник «Норге» заведет.
Сгущались сумерки, из ниоткуда поползи тени, погружая улицы в темноту. Он почесал лоб — сдвинул каску на затылок и впился ногтями туда, где кожу раздражала пропотевшая льняная подкладка.
Читать дальше