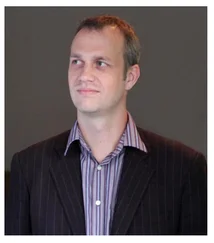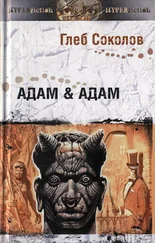Мертвец с нежным лицом не задохнулся, он был застрелен. Пули прошли чуть ниже шеи — такие дырки моль не проест.
Это выяснил Моррисон, пустивший луч фонарика обследовать труп, словно играя в полицейского; Моррисон, вытянувший губы, на которых все еще блуждала загадочная улыбка, — розовые, как бутон, губы кинозвезды. Кларка Гейбла, или кого-то вроде него. Не Тони Мартина. Он пытался понять, не его ли это собственные шальные пули, но нет — слишком уж бледное у мертвеца лицо, и кровь уже запеклась. На нем были мешковатые вельветовые брюки и задрипанная фуфайка, какие носят местные старики крестьяне, что совершенно не вязалось с его внешностью.
— Может, он был полон честолюбивых планов, — произнес Перри. — Может, хотел скакать галопом, а не трястись рысцой. Или был упертым коммунистом.
— Может, он уже начинает совсем новую жизнь, — отозвался Моррисон и злобно сплюнул на пол.
Обшарив карманы мертвеца, они обнаружили мятые фотографии какого-то дома (наверное, родного) и женщины (наверняка матери) и красный блокнот с названием музея на обложке. Кайзер Вильгельм, чтоб он провалился. Может, жив еще. Тот, который тюльпаны выращивал. Блокнот был мелко исписан карандашом, Перри его забрал, потому как вдруг там написано, где скрывается Адольф Г., странички пропитались кровью. На одной набросок, сделанный нетвердой рукой, — деревья на холме. Может, это тот самый лес, где Адольф Г. закуривает свою последнюю сигарету, предположил Перри.
— Этот говноед не курит, — возразил Моррисон.
— Ну и псих.
— А то мы не знали.
Они вернулись к тем четырем трупам, которые сидели у обгорелых картин. В дыре, сквозь которую виднелось небо, появилась вполне живая женщина; она стояла между обвалившихся балок и смотрела вниз, лицо ее казалось привлекательным. Русая, с безумным взглядом, она кричала что-то по-немецки. Похоже, звала кого-то. И впрямь звала.
— Генрих! Генрих! — кричала она.
Перри догадался, что трупов ей не видно. В растрепанных волосах запутались хлопья пепла, глаза красные, а еще она была красивая. Наверняка одного из мертвецов звали Генрихом. Вся беда со смертью в том, что с ней ничего не заканчивается.
— Может, поднимешься, узнаешь, чего ей надо?
— Ты не будешь возражать, если на это уйдет некоторое время? — улыбнулся Моррисон.
Перри слишком устал, чтобы настаивать, чтобы Моррисон был с ней поласковее. Просто хмуро пожал плечами.
— Удостоверься сначала, что она не миссис Гиммлер. Вон тот, в очках, чем не Гиммлер? Очки похожие.
Моррисон рассмеялся:
— Пора бы нам поймать удачу за хвост.
— Когда-нибудь да поймаем, — пообещал Перри, глядя на мертвеца, у которого на носу до сих пор держались очки, будто он фокус показывал.
— Ладно, поделим семьдесят на тридцать. Семьдесят мне, а…
— Морри, ну сколько можно.
Он чувствовал себя пленником усталости — усталости собственного тела. До того устал, что готов был остаться тут, внизу, навсегда, как рыба в мутной воде.
— Вот она, Нил, индейская кровь. Дает себя знать, чтоб тебя…
— Давай иди уже.
Перри отвернулся и занялся прекрасной, бесценной спасенной картиной.
А Моррисон полез наверх к женщине. Чем-то не нравится ему моя родословная, думал Перри. Ну подумаешь, была у меня индейская бабка. И задница свербит, как будто сейчас отвалится.
Я на дне глубокого озера, у меня нет головы. Мое безглавое тело лежит среди водорослей, к нему привязана веревка, веревка тянется наверх. Однажды кто-нибудь придет к озеру и вытянет ее. Если ты решил жить, то всегда найдется ради чего. Можно было остановиться у грушевого дерева и обернуться, но нет, мне нужно было бежать. Сегодня тот, длиннолицый, принес мне хлеба.
Стекло вздулось перед ними, как парус.
Они шли и шли, герр Хоффер не слышал ничего, кроме странного низкого звона. Из губы Хильде Винкель сочилась кровь — и капала с подбородка на грудь. Вернер Оберст, казалось, рассматривал свое плечо, его тощая шея вытянулась, как у петуха. Ему рассекло правое ухо. Кровь лилась из мочки прямо на плечо и на картонные футляры граммофонных пластинок. Герр Хоффер не знал, что делать с накатившей на него звенящей глухотой. Казалось, грохот взрыва пытался пробиться прямо в мозг.
Он заметил, что с пальцев что-то течет — его тоже зацепило. Левая рука была вся в крови; драгоценная лампа валялась на полу разбитая. Почему-то стало стыдно. Поначалу герру Хофферу казалось, что его не задело. Как бы не так. Перед ними раскинулось море разбитого стекла, и они стояли на самом берегу. Стекло сжульничало. Так нечестно. Теперь он даже на губах чувствовал стеклянную пыль. Фрау Шенкель осталась невредима, хотя в седых волосах и на длинном пальто засверкали мелкие осколки. Она кричала Вернеру, что у того порезано ухо, — до герра Хоффера звуки доносились как через толстый матрас. Она протянула Вернеру носовой платок, который тот приложил не к тому уху. Герру Хофферу было приятно сознавать, что бедняга Вернер, обычно такой собранный, никак не может взять себя в руки. Хильде прижимала ко рту рукав. Ее пухлая верхняя губа была рассечена прямо посередине, из-за рукава виднелся край раны.
Читать дальше