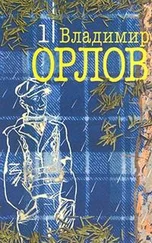— Хорошо, — неожиданно для Куропёлкина спокойно произнёс Трескучий. — Ты, как выразился сам, находишься здесь на своей, якобы автономной, территории. Но твой Шалаш окружён территорией твоего контракта, и, стало быть, между их хозяевами, мягко скажем, могут быть общие договорённости и интересы. Мне бы тебя раздавить и растереть, но это невыгодно и для меня, и для Нины Аркадьевны. А выгодно нам твоё участие в новом Пробивании по маршруту, указанному тебе. Это одно. И другое. Чтоб ты знал. При консультациях сторон я был назначен опекуном беззащитной Людмилы Афанасьевны Мезенцевой, попавшей в унизительное положение Баборыбы. Каждую её слезинку я обязан теперь компенсировать тёплыми дуновениями судьбы.
— А она, значит, предпочитает брюнетов, — сказал Куропёлкин.
— Что?!
— Я просто высказываю своё предположение, — сказал Куропёлкин. — Я никого не желаю обидеть. Просто, выходит, что знания о Людмиле Афанасьевне у меня поверхностные и я обязан их углубить.
Обидеть Куропёлкин, возможно, никого не желал, но вызвать раздражение или даже гнев Трескучего было для него теперь милым делом.
— Углуби! Углуби! — рассмеялся вдруг Трескучий. — Рад не будешь от этого углубления!
— Это отчего же? — спросил Куропёлкин.
— А от того! — чуть ли не восторжествовал Трескучий. — А от того! Ты-то полагал, что тебя за твой канализационный подвиг наградили золотой рыбкой. А ты получил старуху с корытом и дырявый невод. Старуха же пожелала заставить тебя добыть ей столбовое дворянство! И это для начала…
— Что-то я вас не понимаю, господин Трескучий, — сказал Куропёлкин. — Вы с симпатией относитесь, или должны бы с симпатией относиться к опекаемой вами страдалице, вот и в брюнеты себя перевели, а говорите о ней, как о стерве.
Ожидаемого крика Трескучего Куропёлкин не услышал. Тот молчал.
— Так это она для тебя стерва! — сказал наконец Трескучий. И опять рассмеялся. — То есть она по сути своей и для всех — стерва. Но это мне в ней и нравится. А я-то для неё — опекун, союзник и просто приятель. Все же люди, каким ты нужен, рассчитывают на её напор, хватку и жадность. Если ты будешь увиливать от нового Пробивания, ты сам от неё сбежишь на берег кратера Бубукина!
— Неужели и Нина Аркадьевна поддерживает Баборыбу? — спросил Куропёлкин.
Теперь-то Куропёлкин давал возможность порадоваться господину Трескучему. Да что там порадоваться! Был произведён для Трескучего будто бы залп праздничного салюта и фейерверковые букеты с приятным треском взорвались над его головой. Чесменская победа была одержана Трескучим над шутником, дерзнувшим иронизировать над нежно-внезапными чувствами вчерашнего шатена, а ныне козырного брюнета. Может, в будущем — и туза пик.
— Ну, ты, Куропёлкин, даёшь! — хохотал Трескучий. — Ты кто? И кто Нина Аркадьевна? Даже если тебе поставят монумент у кратера Бубукина, отношение её к тебе не изменится. Кстати, она просила узнать, кто такой Бубукин и чем он хорош.
Рассказчик этой истории посчитал нужным вспомнить о Бубукине.
Зачем это надо было делать? И сам не знаю. Впрочем, потребность в этом разрешений у меня не просила, не объясняла — зачем, а подымалась в котле воспоминаий неуправляемой уже опарой в блинные дни масленицы. Двадцатилетним шалопаем (вернее, двадцатитрёхлетним, да и шалопаем ли? имел уже сына, работал в серьёзной, но и озорной газете, кормил семью) я загремел на «скорой помощи» в челюстно-лицевой госпиталь на какой-то улице восточнее Донского монастыря. Увезли же меня с работы, определив температуру в сорок один с половиной градуса, сами и заговорили: «Минуты терять нельзя». Из-за температуры и болей соображения у меня были плавающе-малярийные. В госпитале недомогание моё было признано воспалением надкостницы, и начались ковыряния в моём рту. Что-то в тот день происходило в Москве и с челюстями других людей, в госпиталь мобильные кареты то и дело доставляли мучеников зубной боли к креслам стоматологов. А я, уже забинтованный, успокаивался, но какой-то мужик в палате рядом всю ночь стонал, матерился, ревел свирепым подраненным лесным зверем, ругал правительство, каждого его члена по имени, и в особенности председателя Госплана Байбакова, а то рыдал и умолял спасти его.
Утром выяснилось, что меня не только забинтовали, но и превратили в Шарикова из фильма Бортко. Тут в моих воспоминаниях происходит временной заскок. В пору воспалившейся надкостницы Полиграф Полиграфович ещё не вылупился (не давали) из рукописи Мастера и не отправился бродить по журнальным страницам и уж тем более не мог превратиться в киногероя. Но по моим нынешним понятиям, хотя и преувеличенным, я выглядел тогда так же отвратительно, понятно, что и смешно, как и Шариков, сумевший произнести слово «Абыр». Голова в бинтах, две прорези, одна для глаз, естественно, соседи по палате видели в ней глаза испуганного дебила, вторая прорезь для рта, эта — обидная, две недели мне полагалась Нулевая еда, нечто протёртое и жидкое.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу