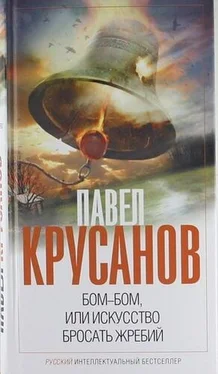Больше о Целинограде Андрей ничего не помнил.
7
Посетителей в «Либерии» набралось уже порядком. Пили, ели, толковали. Были и знакомые (Митя Шагин со стаканом чая, Дима Григорьев с двумя прихиппованными «пионерками», Секацкий с какой-то свежей, ненадёванной покуда аспиранткой, бойкий на слово удильщик Коровин, выучивший наизусть Сабанеева, и даже темнила Левкин, любитель сдвигать створки и смотреть в глазок, любитель запираться и на стук не открывать), однако Норушкин пребывал в состоянии равновесия с миром (довольно неустойчивом), поэтому приятелей не то чтобы не видел — видел, но как-то не замечал. А те сами равновесия не разлаживали. Небывалый такт.
Музыканты упоённо ухали песню-колченожку: эй, мол, злая моя, открой мне дверь, эй, растакая моя, я больше не зверь — пусти меня, и я удеру от тебя со всех моих быстрых ног. Ух-ух. Гитара, бас, барабаны, перкуссия, простенький вокал — всего делов. Было там ещё что-то про ангела, который играет на консервных банках, и про сестёр и братьев, что дарят кому-то по ночам подарки, но это по преимуществу невнятно. Потому что в таком театре вместо бинокля в гардеробе полагается брать косяк. Тогда пробивает.
Однако Тараканов бдел.
Равновесие разладилось само собой, но по-хорошему.
Андрей позвал Любу, попросил стопку и кофе.
Голова была лёгкой, кровь бежала по жилам резво, хотелось шалить.
Мимо как раз шла к стойке григорьевская «пионерка». Довольно милая.
— Не будучи представленным, осмелюсь осведомиться, — словами предка, но с хищной улыбкой Ржевского сказал Норушкин, — в мои объятия не изволите?
Пионерка вспыхнула с несвойственной хиппушкам стыдливостью.
— Я замужем, — должно быть, соврала.
— Муж спит с вами из чувства долга, а я буду совсем из другого чувства, — пообещал Андрей.
— Я подумаю, — пообещала «пионерка» и порскнула к стойке.
— Нам не дано предугадать, кто может дать нам и не дать, — пропел ей вслед Норушкин, а про себя подумал: «Вот ведь похабство какое. Пусти меня такого в метро…»
8
Музыканты объявили перерыв. Стал резче гомон.
Подойдя к стойке с целью размяться и желанием очередной порции хлебного, Андрей сказал Вове:
— Поставь что-нибудь такое, что играли их отцы. Если есть, конечно. И посчитай мне сыр — пусть Люба принесёт.
Обратный путь к столу он проложил петлёй, чтобы продлить разминку и засвидетельствовать почтение.
— Привет, Норушкин, — сказал темнила Левкин, не отворяя створок, как будто внутри него кто-то умер и он боялся, что посторонний увидит труп и обвинит его в убийстве. При этом в своих текстах он описывал подсмотренный в глазок мир подробно, как имущество должника.
Норушкин привет принял.
— Братушка! Ёлы-палы… — троекратно облобызал Андрея большой и мягкий, как диван, Шагин.
Андрей ответно обнял Митю, и руки его за спиной Шагина не сошлись.
— И ты тут, бестия! Небось, гадаешь, как построить небо на земле? — стремительно подал ладонь Коровин.
— Что делать, если у меня под мышками растут перья, — сказал Андрей, — рудименты крыл ангельских.
— Все мы ангелы, — рот Коровина, словно жёваной газетой, был набит буквами алфавита, — а чуть копнёшь — лопату мыть надо.
— Дюшка, здравствуй, — не замечая тревоги на лице одной из «пионерок», приветливо махнул рукой Григорьев — хиппи второго (или, поди, уже третьего) призыва, охотник колесить стоном по глобусу. В действительности ему было нехорошо: днём он съел на ходу два беляша, которые текли у него по пальцам, и теперь в животе Григорьева рокотало/пучилось/зрело светопреставление. Впрочем, всё могло и обойтись, застыть, как неподвижно клокочущий мрамор.
Норушкин здравствовать обещал.
— Андрей, садись, — сказал Секацкий, похожий на аскета-пустынника, которого одолевают бесы. Он, кажется, не слишком дорожил дуэтом с аспиранткой.
— Сейчас, — сказал Андрей, — сигареты заберу, — и вышел из петли к своему столику.
Он и в самом деле собрался пересесть к Секацкому, но тут Тараканов поставил музыку, которая пригвоздила Норушкина к стулу.
И вправду, музыка была как гвоздь — по меньшей мере добрая стодвадцатка, — который входит в доску с пением. Это был старый концерт Ильченко, записанный на сэйшене прямо из зала. Примерно году в восьмидесятом. В нынешние времена запись, надо думать, поскоблили на цифровой машинке/технике/аппаратуре и штампанули на CD, поскольку звук был довольно чистым.
Когда-то, ещё юнцом-старшеклассником, Андрей знал песни из этого концерта наизусть. Но это было давно. Это было плохо забытое старое. И вот теперь это плохо забытое старое навалилось на него тяжело и густо, как вещий сон, который нет сил разгадать, как зима, которая сеет снег, чтобы в мире было не так, как всегда, а немного светлее, но при этом походя бьёт на лету синицу в сердце.
Читать дальше