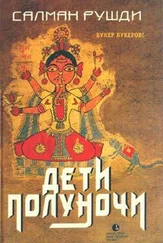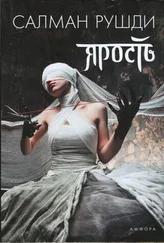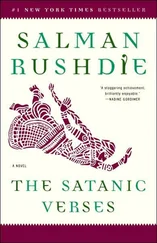– Лучше бы ты искрошила меня в младенчестве, мама, -прежде, чем я с моей рукой-дубинкой вырос в этого молодого старика. У тебя всегда был к этому вкус – к пинкам и толчкам, к шлепкам и тычкам. Смотри, под твоими ударами смуглая кожа ребенка начинает играть радужными кровоподтеками, похожими на бензиновые пятна. УХ, как он вопит! Сама луна бледнеет от этих воплей. Но ты безжалостна и неутомима. А когда он уже весь ободран, превращен в массу без оболочки, в существо без четких границ, тогда твои руки смыкаются у него на горле, и мнут, и жмут; воздух вырывается из его тела сквозь все отверстия, он пердит собственной жизнью, как ты, мама, однажды пернула и выпустила его в жизнь… и вот уже в нем остался один только вздох, один последний колышущийся пузырек надежды…
– Вах, вах! – воскликнул Надзиратель, выводя меня из забытья, полного жалости к себе; я понял, что думал вслух.
– Убери свои большие уши, слонище! – взвыл я.
– Называй меня как хочешь, – отозвался он дружелюбно.
– Твоя судьба уже написана.
Я снова обмяк, привалился к стене и закрыл голову руками.
– Доводы обвинения ты изложил, – сказал Надзиратель. -Впечатляюще, брат. Сила. Но где защита? Мать имеет право на ответное слово – так, нет? Кто будет адвокатом?
– Тут не зал суда, – ответил я, ощущая тошнотворную пустоту, которая пришла на смену гневу. – Если у нее есть своя версия, пусть излагает где хочет.
– Превосходно, превосходно, – сказал Надзиратель с шутовским довольством. – Так держать! Ты у меня тут главное развлечение. Первоклассное. Браво, мистер. Браво-брависсимо.
И я думал о безумной любви, обо всех amours fous в семье да Гама-Зогойби. Я вспоминал Камоинша и Беллу, Аурору и Авраама, вспоминал бедную Ину, удравшую со своим американо-индийским красавчиком Кэшонделивери. Я даже присоединил к ним Минни-Инаморату-Флореас, экстатически влюбленную в Иисуса Христа. И, само собой, я бесконечно, как ребенок, расчесывающий больное место, размышлял о нас с УМОЙ. Я цеплялся за нашу любовь, просто за то, что она была у нас, хотя некие внутренние голоса не умолкая порицали меня за связь с УМОЙ как за вопиющую ошибку. «Отпусти ее, – предлагали голоса. – Хотя бы сейчас, после всего, обрежь эту нить». Но все равно мне хотелось верить тому, чему верят все любящие: что любовь сама по себе -пусть даже неразделенная, неудачная, сумасшедшая – лучше, чем любая альтернатива. Я цеплялся за любовь, которую представлял себе смешением душ, переплетением, торжеством всего нечистокровного, открытого, ищущего – лучшего в нас – над всем, что есть в нас обособленного, беспримесного, строгого, догматического, чистого; я цеплялся за любовь как триумф демократии, как победу компанейского Множества, не считающего человека островом, над скупой, замкнутой, дискриминирующей Единичностью. Я культивировал в себе взгляд на безлюбье как на высокомерие, ведь разве не они, нелюбящие, считают себя совершенными, всевидящими, всезнающими? Любить – значит отказаться от всесилья и всеведения. Мы влюбляемся слепо, как падаем в темноту; ибо любовь есть прыжок. Закрыв глаза, мы летим со скалы в надежде на мягкое приземление. Ох, не всегда оно мягкое; и все же, говорил я себе, все же, пока ты не прыгнул, ты еще не родился на свет. Прыжок есть рождение, даже если он кончился смертью, битвой за белые таблетки, запахом горького миндаля на бездыханных губах любимой.
«Нет, – возражали голоса. – Любовь твоя и мать твоя погубили тебя».,
Я еще дышал, но дышал с трудом; астма свистела и клокотала в легких. Когда я задремывал, мне странным образом снилось море. Всю жизнь раньше я, засыпая, слышал шум волн, происходящий от столкновения водной и воздушной стихий, и мои сновидения выдавали тоску по этому плещущему звуку. Иногда море было сухим – скажем, из золота. Иногда это был полотняный океан, прочно пришитый к земле по береговой линии. Иногда земля казалась порванной страницей, море – другой страницей, выглядывающей снизу. Эти грезы говорили мне то, чего я не хотел слушать: что я сын моей матери. И вот однажды я пробудился от очередного водного сна, в котором, спасаясь от неизвестных преследователей, я вышел к темному подземному морю, и женщина в саване велела мне п лыть пока не задохнусь, ибо только тогда я доберусь до единственного берега, где всегда буду в безопасности, до берега мечты; и я подчинился ей со всею охотой, я плыл из всех сил, пока не отказали легкие; и когда они наконец лопнули, когда океан хлынул внутрь меня, я проснулся с судорожным вздохом и увидел подле себя невозможную фигуру одинокого пирата с попугаем на плече и картой сокровищ в руке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу