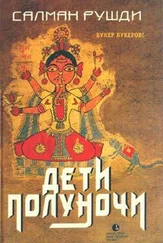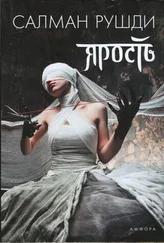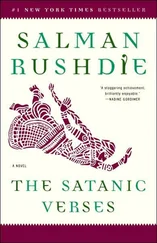Была некая смущавшая меня подробность. Однажды Ума, моя Ума, когда уже близился Эверест нашего наслаждения, сияющий пик нашего восторга, прошептала мне на ухо, что одна вещь ее печалит.
– Твоей мамочкой я восхищаюсь; а она, она совсем меня не любит.
Задыхаясь, пребывая совсем в иных мирах, я попытался ее разуверить: «Любит, что ты». Но Ума – вся в поту, порывисто дыша, судорожно толкаясь своим телом в мое, – повторила то же самое.
– Нет, милый мой мальчик. Не любит. Билькуль – совершенно.
Должен признать, что в ту минуту мне было не до выяснений. Грубость сама собой слетела с моего языка: " Ну, так вставите тогда ей ". – «Что ты сказал?» – " Я сказал, вставить ей. Мамаше моей, по рукоятку. О… " Она оставила эту тему, перейдя к более насущному. Ее губы зашептали мне о другом: «Ты хочешь этого, милый мой, и этого, сделай же, сделай, ты можешь, если хочешь, если ты хочешь». – " О Господи, да, я хочу, я сделаю, да, да… О… "
Такие разговоры лучше вести самому, чем читать или подслушивать, поэтому я здесь остановлюсь. Но приходится сказать – и, говоря, я заливаюсь краской, – что Ума постоянно возвращалась к враждебности моей матери, так что это словно бы стало частью возбуждавшего ее ритуала.
– Она ненавидит меня, ненавидит, скажи мне, что с этим делать…
На это я должен был отвечать определенным образом, и, каюсь, весь охваченный желанием, я отвечал, как требовалось: " Трахнуть ее. Трахнуть суку безмозглую ". А Ума: «Как? Милый мой, милый, как?» – « Спереди, сзади, вдоль и поперек „. -“О, ты можешь, мой сладкий, мой единственный, если хочешь, если ты только скажешь, что этого хочешь». – "О Господи, да. Я хочу. Да. О, Господи ".
Так в минуты моего величайшего счастья я сеял семена беды – беды для меня, для моей матери и для нашего славного дома.
x x x
Мы все, за одним исключением, любили Уму в то время, и даже не любившая ее Аурора смягчилась; ибо, появляясь в нашем доме, Ума привлекала туда моих сестер, и мое лицо тогда недвусмысленно сияло восторгом. При всей невнимательности, отличавшей Аурору как мать, она все же оставалась матерью и поэтому несколько умерила свою неприязнь. Кроме того, она серьезно относилась к творчеству, и после того, как Кеку Моди побывал в Бароде и вернулся восхищенный работами девушки, великая Аурора еще больше растаяла. Ума как почетная гостья была приглашена на одну из редких теперь вечеринок в «Элефанте».
– Таланту, – заявила мать, – все прощается. Ума польщенно потупила глаза.
– А посредственности, – добавила Аурора, – ничего не полагается. Ни одной пайсы, ни одной каури [ 102], вообще ничего. Эгей, Васко, – что скажешь на это?
Васко Миранда, которому перевалило за пятьдесят, был теперь нечастым гостем в Бомбее; когда он появлялся, Аурора не тратила времени на любезности и обрушивалась на его «вокзальное искусство» с ядом, который удивлял даже в этой язвительнейшей из женщин. Вещи самой Ауроры мало куда вывозились. Что-то купили крупные европейские музеи – амстердамский муниципальный, галерея Тейт, – но Америка оставалась непроницаема для ее искусства, если не считать Гоблеров из Форт-Лодердейла, штат Флорида, чей коллекционерский пыл дал столь многим индийским художникам средства к существованию; поэтому, возможно, материнским тирадам добавляла остроты еще и зависть.
– Ну, чем теперь потчуешь транзитных авиапассажиров, а, Васко? – осведомлялась она. – Небось, на эскалаторах все пятятся назад, чтоб получше рассмотреть твои росписи. А смена часовых поясов? Как она влияет на восприятие искусства?
Под градом ее стрел Васко только вяло улыбался и опускал голову. Он теперь обладал громадным состоянием в иностранной валюте и не так давно избавился от всех своих квартир и мастерских в Лиссабоне и Нью-Йорке с тем, чтобы построить подобие замка в холмах Андалусии, на каковой проект, по слухам, он готов был израсходовать больше, чем составлял в сумме доход всех художников Индии за всю их жизнь. Эта байка, которую он не опровергал, только увеличила неприязнь к нему в Бомбее и добавила ярости атакам Ауроры Зогойби.
Он неимоверно раздался в поясе, его усы превратились в двойной восклицательный знак на манер Дали, его сальные волосы были разделены на пробор над самым левым ухом и приклеены к лысому, блестящему напомаженному темени.
– Неудивительно, что ты до сих пор в холостяках, – дразнила его Аурора. – Второй подбородок женщина еще может стерпеть, но у тебя, дорогой мой, целый зоб вырос.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу