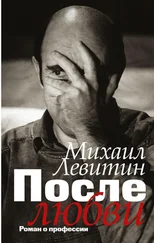Работали вместе они долго, а потом начались хвори, болела она очень, он уже и в аттракционе стал ее беречь, работать разрешал все меньше, но, не знаю причины, наверное, все-таки старость, стала она уставать и, выполняя все честно, двигалась медленнее, медленнее, а под конец совсем вяло. Что поделаешь, возраст, дорогие мои. А когда приходит возраст, лошадей отправляют на бойню.
Так вот, рассказывал мне этот служитель, что на бойню не хотел дрессировщик ее отдавать, никак не хотел, его уговаривали и начальство цирковое, и врачи, и еще девица одна, жонглер, не последняя для него девица, ух, как обручи умела крутить, жар-девица, не хотел отдавать — и все.
А животных с человеком только одно сближает чувство вины и страх смерти. И так они благодарны, когда ты их жалеешь, неописуемо. Живое вообще нуждается в ласке, а дряхлеющее животное особенно.
Он сам стал ее кормить, ходить за ней, служитель только самую грязную работу выполнял, чистил стойло, дежурил по ночам. И вот, когда уже уговорили, пришла машина везти ее на бойню, а вы такие фургоны для перевозки лошадей знаете, и как их по настилу вверх толкают, чтобы в фургон загнать, а они упираются, и вот их уже куча взмокших мужиков толкает, а они все упираются — так вот, когда пришла машина и стала у цирка, хозяин сказал: „Нет“. А человек он был мягкий, казалось, легко его окрутить, все рассчитывали на его благоразумие — не кормить же всю жизнь нерабочую лошадь — и на влияние той бойкой дамочки-жонглера.
— Нет, — сказал он так, что все притихли и поняли, что есть минуты, когда власть и дамочки и цирковой дирекции кончается.
Конечно, после этого Арсена приобрела в цирке много врагов, и все время это чувствовала и, вероятно, много сердца потратила, чтобы выдержать такое отношение к себе как к нахлебнице, но были у нее и доброжелатели, вот мой служитель, обессмертивший ее имя, был одним из них.
В аттракционе ей теперь отведено было особое место — надзирающей лошади, она становилась как бы соавтором дрессировщика по аттракциону. Он держал ее под уздцы, пока шло представление, в другой руке у него был хлыст, и он отдавал приказы лошадям-артисткам, не отпуская Арсену от себя.
Кланяться они выходили последними и вместе. Публика никак не могла понять, кто эта черная красавица: то ли всем мать, то ли ему жена?
Никто не знал, чего ей стоила эта роль, это стояние, когда другие в мыле зарабатывают свой кусок хлеба, а она наблюдает да еще выходит кланяться никто не знал, как она настрадалась.
Как я уже говорил, мой служитель подрабатывал в цирке еще и сторожем, и вот однажды ночью, когда цирк, как известно, спит, обошел он все гримерки, все коридоры, конюшни, на арену заглянул, и тут…
Вначале он даже не понял, что происходит, черное двигалось внутри черного, падая, взлетая, несясь, несколько дежурных лампочек мало помогали разглядеть, но потом догадался, что что-то происходит на самой арене, вгляделся, а там она, Арсена вдохновенно выполняла все те, освоенные ее душой за всю счастливую актерскую жизнь номера, которые ей было запрещено исполнять во время представления. Она не могла уснуть спокойно рядом со своими уставшими подругами, пока один за другим не выполнит все обязательные по законам вольтижировки приемы, пусть даже перед пустыми креслами, не под взглядом специалистов, для себя самой.
Потом она закончила работу и раскланялась, не так как после вечернего представления, примазавшаяся к чужой славе, а удовлетворенно раскланялась и гордо.
Раскланялась и, слегка покачиваясь от усталости, вернулась в стойло.
Когда это повторилось на следующую ночь, мой служитель пришел к дрессировщику и все рассказал. Тот выслушал, ни один мускул не дрогнул у него на лице, непонятно было, поверил или нет, но ночью в то самое время стоял и он, и уже оба под трибунами, и ждали.
И вот выбежала она, красивая, благоуханная, выбежала, когда все закончилось, когда никому не была нужна, но так выбежала, будто цирк был полон и будто знала, что где-то в темноте притаился он, ее учитель, ее кумир, ее мужчина, и наблюдает.
Она сделала вид, что не видит его, и под звуки немого оркестра понеслась по арене. Все, что она делала в этот вечер, она делала для него и вдохновенно. Это был поистине ее бенефис, ее звездный час, она показывала не только то, чему он учил, но и что сочинила сама, она давала ему представление — на что способна лошадь ее породы и класса и на что способна любовь.
Когда она подогнула передние ноги и опустила в поклоне голову, дрессировщику и служителю показалось, что больше она не встанет.
Читать дальше







![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)