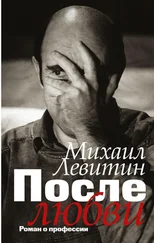Миша Колесников действительно приезжал один раз, но писал часто. Наташа прятала от быстрых глаз Эмилии его письма. В тот приезд ему не о чем было с ней советоваться.
— Наташа, — сказал он, — если нужны деньги…
— Нужны, — быстро ответила Наташа. — И много.
Он стал судорожно копаться в бумажнике.
— Вот все… пожалуйста… я так рад… здесь только на билет… Если бы ты решилась, то сейчас же с Танечкой в Тифлис, ты знаешь, я одинок, дети хорошие, они бы подружились.
Наташе захотелось обнять его, что она и сделала, да так нежно, что сама удивилась своей способности обнимать.
— Мишенька, — сказала она, — я люблю мужа, если бы ты знал, как я его люблю…
Он вернулся таким, как был, ну, совершенно таким, то ли лагерь никак не повлиял на него, то ли у него всю жизнь привычки были лагерные, он вернулся не из лагеря, а из жизни, не потеряв расположение ни к чему на свете. Из новых привычек появилась только одна совершенно перестал записывать свои стихи сам, а просыпался ночью и орал благим матом: «Карандаш! Быстренько! Диктую, Танька, записывай скорей, не то уйдут», — и начинал диктовать Бог знает откуда пришедшие ему ночью в голову строки. Он диктовал, сидя в постели, голый, а они, как дуры, записывали, ничего не понимая со сна, стараясь не спугнуть вдохновения, о этот любимый голос, как его не хватало! Карандаш и бумага всегда лежали на стульях рядом с ними, а утром все вместе разбирали всю эту рифмованную муть, хохоча, вспоминая, как рев отца перепугал Наташу среди ночи: «Карандаш, бумагу, записывай!»
А записывать, оказывается, было нечего, не стоило и будить. Правда, иногда и в этих ночных импровизациях что-то попадалось — не зря они трудились. Лучшее Игорь переписывал в тетрадь, которую назвал «Альбом — музей моей жизни». Но вскоре появлялся Круч, жадно ел на кухне, сидел долго, будто ждал каких-то неприятных для них событий, не дожидался, уходил, прихватывая с собой плоды их ночных развлечений. Игорь почему-то охотно ему их отдавал, чем приводил Наташу в негодование.
— Это твои стихи, кто он такой, почему ты ему все даришь?
— Во-первых, стихи писать научил меня он, во-вторых, Наташенька, эти стихи плохие, но самое главное, что Круч — старьевщик, старьевщик собирает старое, ненужное, стихи старятся, как только их напишут, вот я и отдал старьевщику старье.
Все равно она не соглашалась, равнодушие к сделанному поражало ее, ведь были люди, способные оценить его поэзию. В двадцатые годы его читали в Париже, разве это так просто? Если бы они добрались, возможно, Танечке не пришлось бы сейчас донашивать ее старые вещи. Кто знает, как сложилось бы все? Хотя знает она, знает, что и в Париже счастье не длилось бы слишком долго. За успех надо держаться, а не то он вырвется и улетит, оставив в руке пук перьев. Но Игорю говорить этого не следовало.
— Откуда ты знаешь, что такое успех? Может, это то, что переживают наедине с собой? А может, мой главный успех — это ты и Танька?
И все. А дальше продолжалась жизнь, которой нет цены.
Все, что он любил в театре, было уже не нужно, он попытался снять кино, но дело в том, что он не любил кино, честно сознался, ему не поверили, а отказаться уже не мог, потому что место съемки предложили выбрать ему, а какое место съемки, если по сценарию лето? Конечно, море. Он выбрал море, чтобы на юг, погреться после своего канала, сидеть на пляже и дуть в жару горячий чай из блюдца, а вокруг чтобы зажигались юпитеры, как маяки, и дамочки с проносящихся катеров восхищенно вздыхали: «Ах, кино снимают!» И, не смущаясь присутствием мужей и любовников, рассматривали в бинокли его сверкающую на солнце лысину.
Кино было про партизан, он все красиво придумал, но, когда увидел белесые от соли камни, крупную цветную гальку на берегу, представил, что ему на время съемок надо все это бросить и забраться в сырые штольни прибрежных каменоломен, тут же про всех партизан забыл, а кино снимали уже без него те, кто снимает все, что им на глаза попадается, — операторы. А он чай дул на пляже. Пленку потом на студии смыли, делать фильмы больше не приглашали.
Таня в тот год переживала первую свою личную драму, делилась с отцом, с Наташей почему-то нет. Вероятно, считала, что у мамы меньше опыта. Что ж, это правда.
Они ходили около дома, она рыдала постоянно, он объяснял ей что-то, воодушевленно показывая кому-то невидимому шиш, она смеялась, тогда он начинал нашептывать ей, наверное, что-то запретное, это приводило девчонку в восторг, и домой возвращались абсолютно довольные друг другом.
Читать дальше







![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)