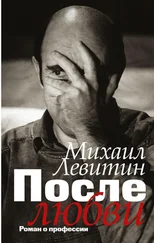— Да, папа.
— Так вот, ты умрешь страшнее.
Правый его глаз слезился в сумерках и казался Эмилии огромным, как слива. Она села рядом и поцеловала его в этот глаз.
— Эти твои ребята — очень несерьезные люди. Я наводил справки, их же никто не знает. Те, кто знает, говорят однозначно — богема. Они — богема?
— Я не знаю, что ты имеешь в виду. Наверное. У нас театр.
— Богема — это когда не хотят детей. У тебя нет детей.
— У меня будут.
— От кого? В наше время женщина знала, кто отец ее ребенка.
— Но у меня муж.
— Да? Который из двух? Говорят разное.
— Ты многое успел узнать, папа.
— Я ходил, говорил с людьми, что мне еще делать?
Он всхлипнул и долго-долго молчал. Эмилия испугалась, что он больше не произнесет ни слова. Но он произнес:
— Надо бежать, это очень красивый город и очень несимпатичный. В нем не должны жить люди. У тебя — профессия?
— Я актриса.
Он помолчал.
— Да, конечно, если нет другой, это профессия.
— Мне нравится.
— Аргумент. Почему ты не стала врачом? Мама была бы сейчас здорова. Может быть, еще не поздно стать врачом?
— Почему именно врачом, папа?
Он не расслышал.
— Ты можешь, ты все можешь, если захочешь.
Он сел на постель, маленький, как Эмилия, рыжий, как она, только очень-очень старый. Веснушки осыпались с его лица, оно побледнело и осунулось.
— Я не приехал тебя забрать, мне некуда тебя забрать, и потом, посмотри на себя: ты уже не такая красавица, которой обещала быть прежде. Все твои женихи — кто погиб, кто сбежал, кто в тюрьме. Ты не стыдишься своего имени?
— Что ты, папа!
— Это было славное имя, за него могли и расстрелять. У вас стреляют?
— Что-то не слышно, папа.
— Это делается так, чтоб не слышно. В Одессе тоже пока не слышно, и потому я в Одессе.
Они проговорили целую ночь о близких, о друзьях, о маме, об оползне в Скадовске, о ценах, о конце света, лепетом своим она его немножко успокоила, потому что понимала — это последняя встреча. На вокзале он сказал:
— Ты всегда мечтала путешествовать. Жаль, что я никуда тебя не вывозил, мама была всегда больна.
— Как? А Париж, а Америка? Мы ездили, папа, мы много ездили.
Он рассердился:
— Не говори глупости! Дальше Одессы ты не выезжала.
И уехал, оставив Эмилию одну на перроне в смятении.
А Мейерхольд не пришел. Это было наше последнее лето, лето нищих.
Мы играли свои спектакли в Москве, в театре Мейерхольда. А Мейерхольд не пришел. Людей было очень мало, все свои: Лилечка, Третьяков, Крученых. А Мейерхольд не пришел. Я гримироваться не могла, выскакивала из гримерки, всех пытала. Пришел — не пришел? Игоря жалко. Стоит, наверное, внизу, цигаркой смолит, кепку в руках ломает, ждет. А что Мейерхольд, что Мейерхольд? Это что, Мейерхольд придумал, как женщина у зеркала сидит и, когда слышит на лестнице шаги идущего ее убивать человека, пуховкой крестится, оставляя следы пудры на платье, как крест? Это Мейерхольд в «Фокстроте» крышу придумал на всю сцену, когда песня Володи грустная, а из-под крыши стоны любви, а когда крыша поднимается и свет торшера, видишь, что не любви вовсе, а боли, это женщина стонет, когда ее на тахте убивают? Это Мейерхольд возвращение Хлестакова и Осипа в финале «Ревизора» придумал? А теплушки в «Джоне Риде», что, тоже Мейерхольд, когда цигарки в темноте попыхивают, перестук колес, вагонный разговор, это движется поезд? А в «Наталье Тарповой», когда персонажи о себе в третьем лице говорят, тоже Мейерхольд? Или когда на первом плане действие, а на втором тоже оно, но в зеркале под углом повешенное и совсем другое, как жизнь раскадрованная, неизвестно откуда взявшаяся, а это мы располагались за ширмой так, чтобы в это зеркало попасть?
Нет, это не Мейерхольд придумал, это голь придумала, что на выдумки хитра, ни у кого, кроме как у поэзии, не учившаяся, чудом догадавшаяся, что его место в театре. И голью этой был Игорь, мальчишка из Екатеринославля, сын жандармского полковника, поэт-заумник, друг Маяковского, последний настоящий левый. Никому ничего не доказывать — вот главное. Ему доставляло удовольствие театральное занятие, этого было больше чем достаточно. Он хотел в дырку сцены, как Подколесин в окно, выскочить. Не удалось. Мейерхольд, Мейерхольд, в конце концов, каждый сам себе Мейерхольд! Если он такой, каким я его по Херсону помню, когда из ямы выгнать меня хотел, — тощий, всклокоченный, чума с напомаженными губами, — и не придет. Такому никто не нужен.
Мучительное лето, ничего не заработали, друзья распихали нас по квартирам, кормили, как могли, даже вечеринку после гастролей Лилечка у себя устроила.
Читать дальше







![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)