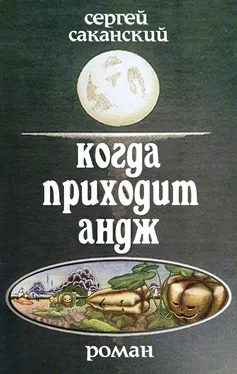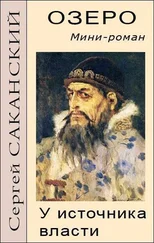Стаканский провел ее зимней лестницей наверх, открыл дверь мансарды, оттуда неожиданно вылетел крупный шмель. Они спустились в сад, где Анжела проворно вбежала в беседку и, цокая языком, восхитилась ее великолепием — беседка была ей очень к лицу. Наконец, они вышли на пляж, главную достопримечательность дачи, где волны Клязьмы плескались прямо под стеной дома — Анжела плавно взмахнула руками, как крыльями птица…
— Ну почему у меня всегда такое ощущение, будто я вижу все во второй раз! Немыслимо — будто я живу как-то повторно… Если бы мы сейчас сидели в кино, я давно бы бежала из зала от этого deja vu …
В вечернем свете, отмахиваясь от комаров, они расположились на улице и вместе готовили обильный обед. Анжела была так уютна в бабулином переднике, от нее веяло спокойствием, Стаканский почувствовал, что счастье его неминуемо…
— Анжела, — сказал он. — Будь моей женой.
И в этот миг сила, до сих пор прятавшаяся в его сознании, откровенно ступила во внешний мир: Анжела, ладонью с ножом между пальцев – в опасной близости от глаз – прикрываясь от солнца, посмотрела мимо Стаканского и вскрикнула, словно увидела чудовище. Стаканский медленно обернулся. У калитки стоял, приветливо подняв полную хозяйственную сумку, весь потный, сияющий, вот-вот готовый радостно засмеяться – отец.
— Ха-ха-ха!
— Хи-хи-хи!
— Ху-ху-ху!
— И они называли вас Дяборя? — хохотала Анжела.
— Но это же очень просто: дядя Боря — Дяборя, или даже де’Боря. А дедушку они называли Десеней — от дедушки Сени.
— Ха-ха-ха! Десеня-гусеня!
— Хе-хе-хе!
— А я был тогда молодой, сильный, я играл на контрабасе! Представляете — здесь, на этом самом месте…
— И вы их обоих убили?
— Да. Ее отравил таблеткой, а его…
— Гу-гу-гу!
— …немного позже застрелил из нагана.
— И вам не было больно, ну, как у Толстого с Болконским, с Карениной?
— Ничуть. Нисколечки не было их жалко, этих, мной же созданных существ. Я думаю, что и Толстой лгал насчет своих крокодильих слез.
Анжела поймала взгляд Стаканского и сделала губами немое «у» — дескать, послушаем его дальше… Стаканскому неожиданно стало светло на душе, так как момент отодвигался на неопределенный срок: ведь все-таки ужасно, когда это надо делать именно сегодня.
— Кстати, — сказал отец, — я внимательно прочитал твои стихи.
Стаканский заметил, как Анжела напряглась и поджала губы.
— Видишь ли, Анжела, твои стихи во многом еще сырые. В принципе, ни одного пока еще нельзя опубликовать. Вместе с тем, в них есть такие замечательные находки, такие рациональные зернышки, что совершенно ясно: этот автор будет поэтом. Ни в коем случае не бросай писать. Считай, что я благословляю тебя на труд, как старик Будякин, то есть, тьфу — Державин. И в гроб сойдя, благословил… Удивительно свежая кинза, вероятно, часа два назад она еще безмятежно росла на грядке…
Обед был многосерийным, полным замечательных лирических отступлений, вроде внезапно найденной банки филе из кальмара в собственном соку, или случайно разбитого блюда с маринованным чесноком, который, впрочем, никто не хотел есть… Отец был оживлен и благодушен.
— Мое глубокое убеждение, — говорил он, с небрежной светской точностью подкладывая Анжеле салат из креветок, — не иметь ровно никаких убеждений. Верить во что-либо — значит, изменять свободе. Зачем мне исповедовать какую-то философскую идею или религию, что в конечном счете одно и то же, когда у меня своя голова на плечах?
— А как же ваш Богдан? — спросила Анжела, узким серебряным ножом разрезая ломтик свинины, — ведь он всегда молится, во сне и наяву, ставит свечи…
— Это не моя философская концепция, а концепция данного романа. Думаете, Дарвин верил в свою теорию? Он просто плыл по течению, создавая замкнутую, совершенную в самой себе систему. Я не делаюсь догматиком и для каждой новой книги предлагаю новую идею. Чтобы написать «Марию», я действительно изучал православие и даже посещал церковь. Богдан — это двоемирие, всего лишь частный случай множественности миров, слоев, так сказать, Вселенной, или нашего сознания — как хотите. Анжела, положи мне пожалуйста вот этот маленький куриный окорочок.
— А как же, — спросила Анжела, переглядываясь с Стаканским и покручивая пальцем у лба, — тот же Толстой, Достоевский?
— Полноте! Никакого Достоевского не было. Это все Тургенев написал, история, знаете ли, искажена… Пожалуйста, теперь крылышко, я ужасно голоден. Что-то невообразимое случилось со мной, ем и ем, как беременный, расту, наверное… Писатель, дорогие мои, это всего лишь аппарат для производства текстов, этим он и отличается от людей других профессий. С чего вы взяли, что он должен быть особенным, высоконравственным, знать то, чего не знают другие? Он, как правило, еще больший подлец, чем все остальные, он туп, невежествен, он гордится не своим умением писать, а, скорее, своим неумением делать что-либо другое. Приятно эдак сознавать себя гением и умереть в полном неведении, что ты дерьмо. Что ты в поте лица сочинял книги — для других, настоящих, которые действительно жили, радовались жизни, наслаждались ее вкусом, запахом, оргазмом, плюс твоими книгами, да и оставили тебя в дураках… Когда же я насытюсь? Почему я ем и ем, и никак не могу остановиться? Андрюша, будь добр, положи мне этого изумительного винегрета из раков. Еще чуть-чуть. Неплохо бы чего-нибудь на десерт, скажем, какой-нибудь рыбы… Самое страшное — и тебе, Анжела, как будущему поэту необходимо это знать — все, что ты не напишешь, рано или поздно произойдет в твоей жизни. Правда, не ясно, творим ли мы сами эти события, или читаем в каком-то информационном поле. Поэтому, будь осторожна. Не фантазируй насчет реально существующих людей. Меньше пиши о смерти… Спасибо. Все было очень. Вероятно, я сюда еще вернусь и доем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу