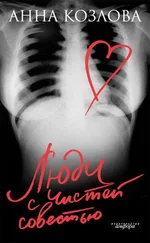Она, разумеется, навестила мою маму и, мелко стуча по тарелке ножом и вилкой, с набитым ртом рассказывала про свою жизнь в Гондурасе. По ее словам, там было просто неправдоподобно прекрасно, в этой парадической деревне на берегу моря, где старый адмирал слушал по вечерам Шопена и комарино звенел гончарный круг, ставший ареной бесплотных потуг превратить ремесло в искусство. Дина рассказывала о том, что вдовство ее совсем не тяготит, так как на соседней улице, в доме, полном лоснящихся от жира старух, хриплых женщин, рыбаков и ревущих младенцев, обосновался ее любовник, ветеринар Хорхе Луис.
Оказалось, что все эти годы после нелепой, как все, что он делал, смерти мужа, Дина вела жизнь чуть ли не свободного художника — каждый вечер, расправившись с очередной порцией «русских горшков», она шла на курсы живописи для домохозяек, где домохозяйки писали натюрморты и пейзажи с фотографий или картинок из National geographic.
Вспомнив Дину и обстоятельства своего крещения, я подумала о том, как причудлива и многообразна иератическая мозаика бытия, в которой, как в паутине, все тесно взаимосвязано и все имеет право на существование. То, о чем рассказывала Дина, вызывало у моей мамы лишь презрительное непонимание, хотя, в сущности, было жизнью, одним из ее бесконечных коллажей под неусыпным оком Господа, сотворившего детей своих в немощи и неверии, дабы через немощь и неверие, страдание и смердящие язвы возвысить собственное непререкаемое величие и неотвратимость истины.
Хорхе Луис, приходивший к Дине на энчиладу и наполнявший запахом конского пота ее постель, курящий в душной темноте сигариллы, когда Дина склоняла мокрую голову к его пронзительно воняющей подмышке и они вместе слушали глухие удары ночных бабочек об алюминиевые жалюзи, — все это было жизнью. И Динин сын, сладко трепетавший в маскулинном, хемингуэевском присутствии адмирала, ударял по клавишам рояля и пробуждал из вечно немой тьмы священные звуки страсти, боли и отчаяния, которые, как преображение Савла на пути в Дамаск, озаряли просветлением душу каждого человека и на которые каждая душа откликалась тихим рыданием, — это было жизнью. Играть на рояле или заглядывать в жопу прихворнувшей лошади по святому праву всякого дипломированного ветеринара, спать с Даудом или Львом — какое значение все это могло иметь, если Господь был везде, где люди тянули к нему из темноты свои руки, обагренные мерзостью, моля о прощении и помощи?
Наконец пришел торжественный день выписки. Сергей Александрович накануне признался мне в любви, я оставила ему свой телефон (кое-что между нами уже случилось: во время его ночного дежурства мы выпили бутылку коньяка в «комнате отдыха», Сергей Александрович долго просил меня взять его член в рот, но мне было лень, и я согласилась взять только в руку) и, собирая вещи, мрачно размышляла о том, почему именно ко мне мужчины считают возможным подойти и сказать непристойность, шлепнуть по заднице и даже в роддоме не оставляют меня в покое. Что было во мне не так? Почему уроды всех мастей клевали на удочку, которую я даже не забрасывала, и преследовали меня по всему миру? Когда я спросила об этом Любу, встречавшую меня вместе с фальшиво восторженным, небритым Львом, она ответила: «Потому что ты красивая, веселая баба, а не селедка, которая всю жизнь кашеварит и подтирает сопливые носы!» Лев бросил на нее негодующий взгляд, очевидно, он надеялся, что с появлением ребенка я ограничу свою жизнь именно этими двумя действиями.
Дома нас ожидала нефункциональная люлька в кружевах и плакат, нарисованный явно в пьяном бреду и гласящий: «SWEETY, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ ВМЕСТЕ С МОЕЙ ЛЮБИМОЙ БУДУЩЕЙ КРЕСТНИЦЕЙ!»
— Кстати, как мы назовем девочку? — пять раз спросил Лев, пока Люба сюсюкала с ребенком и совала ему в рот бутылочку с молочной смесью, а я бегала по всей квартире с бутылкой пива, надеясь разыскать в бардаке свой халат.
— Лейла? — предложила Люба. — Будет счастливая.
— Или Зулейха? — хихикнула я. — Будет сумасшедшая.
— Может быть, Анастасия? — Лев сделал вид, что не слышал моих и Любиных слов.
— С какой стати Анастасия? — враждебно спросила я. Лев начал раздражать меня своей водевильной ролью счастливого отца — ему не хватало только схватить зонтик-трость и начать весело приплясывать.
— Ну, мою матушку зовут Анастасия…
— А мне насрать на твою матушку, — отрезала я. — Верка. Вот как я ее назову.
— Мне нужно в архив, — сказал Лев и двинулся к двери.
Читать дальше