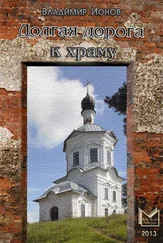— Вот, Пашка, как человек помирает… Щас и всё будет… Не пожалей трудов, посади дерево какое на могиле, хоть осину, хоть што… — Голос, последняя сила его, и тот пропал.
Павел опустился на колени, ткнулся лбом в пустой бок приятеля. Вот какую прореху в его жизни смерть сделала. Видел бы Господь, что он плачет над отступником… как бы видел Он… как бы видел Он тоску раба своего… как бы оставил ему Валасия, ну хоть на недельку ещё! Павел потянулся рукой, провел ладошкой по мёртвому лбу, чуть задержал пальцы на мягких буграх глаз.
— Прости, Господи, раба Твоего, упокой душу его… — И похолодел весь. Валасий тяжело свернул голову в его сторону. Свет лампы попал в открытые глаза, закачался в них плоским отсветом.
— Я тя, леший сивый… вместе с господом! — сказал Валасий полным голосом. И потянул в грудь воздуху, запер его там, чтобы ещё сильней сказать какие-то слова, но нутро прорвалось, воздух вышел пустой, без голоса.
За окошком качались чёрные листья кустов. Скоро небо начнёт светлеть, поди, с той стороны уже сереет край. Начнёт светлеть, как не начать? Жизнь-то остальная своим чередом пойдёт и без Валасия. Пойдёт остальная-то жизнь, ровно он ещё живой или будто его никогда и не было. Вот если бы там край какой надломился. Чтобы заметно было, что помер некий человек Валасий… Не надломится… И Мити нет. Другие, может, помянут? Конечно, кто-то всегда помянет, потому что видели его, знали, слыхали, может, чего. Помянут коротко и не знавшие, кому лишь имя на глаза попадётся — для того и пишут на могилах имена, чтобы кто-то, хоть коротко, да вспомнил. Так и получается вечная память. Хотя, как вечная? Пока надпись цела, пока не сравнялась могилка. Это для остальных людей. А своя-то плоть — она, пока сама жива, помнить будет, пусть ни надписи, ни могилы не останется. Человек живёт надеждой на память. «Вера есть память…» «Душа праведного вознесётся…» Значит, вера — она не только память, она — надежда на вечную жизнь, пусть бестелесную, но долгую, долгую… Почто же плачут тогда по телу, что же имя усопшего высекают в камне, если жив он душой? Чтобы помнили? Значит, поминать-то надо тело, а душа — бес её знает! — где?
Павел заблудился в мыслях, напугался тайного своего безверия, повернулся на коленях к домашнему иконостасу, с крестным знамением поклонился до полу, спросил страждущим голосом:
— Пошто ТЫ меня оставляешь, Господи?!
В углу зашевелилась Катяша. Павел вздрогнул от близкого шороха. Катяша скрипнула половицей, слезая с лежанки. Он узнал скрип, плечи обмякли после короткого страха.
— Леший тебя носит! — обругал он старуху.
— Ложись, батюшко, — сказала Катяша. Утром обмою покойного, обряжу.
Павел не ответил. Какой теперь толк разговаривать? Всё, что живо было, мёртвым будет. Останется только память да живая кровь да рукоделие какое, сотворённое при жизни. «…Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это — доля его; ибо кто приведёт его посмотреть на то, что будет после него?» Вот как сказано в Писании Екклесиастом-проповедником. Кто теперь приведёт Валасия посмотреть на оставшуюся жизнь? И ещё у того же проповедника сказано: «Кто находится между живыми, тому есть ещё надежда, так как и псу живому лучше, нежели мёртвому льву». Какая бы пустота ни была сейчас вокруг Павла, а всё лучше она той пустоты, что вокруг Валасия…
Катяша помаячила в сумерках дома и опять проскрипела половицами, уходя к лежанке. Через щель в перегородке увидела, что Павел постоял на месте, теребя бороду, потом плюнул на что-то, перенёс лампу в угол, стал копаться в ларчике. Там у него хранится простенький инструмент, деревяшки всякие, жестянки, ремешки из сыромятины. Зимними вечерами он часто подсаживается к ларчику, пилит, стрижёт чего-то. Прошлой зимой всё пилил да красил фанеру. Катяша только и знала пол за ним прибирать, а что он там творил — Бог ему судья. Потом показал, правда. Собрал на лавке избушку, наладил ремешки, гвоздики — озорник он и выдумщик — сказка про Колобка получилась. У Старика и голова, и руки качаются, и у Бабы тоже, и Колобок катается — вся сказка живая вышла.
В ларчике у Павла были две жестянки от большой банки из-под селёдки. Селёдку они съели постом с Катяшей, а крышку и дно он оставил — ну, как ещё чего на ум придёт? Теперь стриг эту жесть большими ножницами, как бывало, приходилось стричь жесть или кровельное железо на войне для отметок солдатских могил. Валасий-то всю войну, говорил, с сапёрами прошёл. Как бы там его сразило, вырезали бы ему на могилу жестяную звезду. Он, поди-ко, последнее-то хотел сказать: «Крест, дурак, не вздумай на могиле поставить». Поди-ко теперь спроси, что он хотел сказать?… Раз уж помер в безверии — какой ему крест? А какие ещё отметки на простой могиле? — Крест да звезда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу