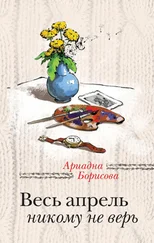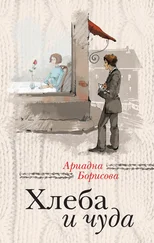— Бабушка передать велела.
На конверте одно слово было написано: «Зятю».
Вскрыл Леонтий Павлович письмо не без опаски — вдруг змеюка какая выползет. От ведьмы и после кончины всего можно было ожидать, вплоть до террористического акта. Но выпали из конверта несколько зерен, и ничего больше, сколько он в него ни заглядывал, даже весь порвал.
Понял Леонтий Павлович, что нужно ему почему-то эти зернышки съесть. По наитию или как, но понял. «А-а-а, — вскинулся в порыве, — умирать, так пусть. Жить неохота. Все равно опозорился с юбилеем на весь белый свет. Знать, отравленные зерна подсунула ведьма перед тем, как в ад нырнуть».
Пожевал задумчиво — укроп укропом. Вкус знакомый. Тот сорт, какой в квашеную капусту кладут. Ждал день, два: нет и нет смерти, даже не прохватило. Ну, и забыл за делом. Потом посевная началась, до смерти ли.
К лету Наталья стала чего-то смурная, начала жаловаться на нездоровье, боли в спине. Сама раздалась вширь, в прежние халаты уже не влазила. «Годы, — с грустью думал Леонтий Павлович, жалея жену. — Все ж таки за сорок бабе. Может, климакс начался, или как это у них там называется…»
Осенью «климакс» зашевелился. Наталья кинулась в город к гинекологу. Там подтвердили: рожать придется, аборт делать поздно уже.
Приехала вся больная, не знала, как доложить мужу. А Леонтий Павлович никак не мог понять, чего она носится, точно угорелая, с зардевшимся помолодевшим лицом. Прежней ревности подпустил. Дал себя уговорить на просмотр нового кинофильма, чтоб угадать, на кого она в клубе шибче смотреть будет. На завклубом глянул грозно, тот аж забеспокоился, тощими ножонками в стиляжьих брючках застриг от испуга. Будешь знать, городской шмендрик, как на наших баб пялиться. Не удержавшись, Леонтий Павлович и с маманей, как прежде, сдуру пошептался о своих опасениях… И лишь когда Натальин живот попер вперед, дошло. Ахнул смущенно:
— Что удумала-то? Мне полтинник, Анютка на выданье, а ты!
Жена заплакала, кинула со злыми слезами:
— Я, что ли? Не ты ли, кобель старый, лазишь и лазишь на меня до сих пор? Как дочкам теперь скажу?
Леонтий Павлович присмирел. С новой силой поднялись из глубины мысли о сыне. Но уже не говорил об этом, боялся надежду спугнуть. Хотя чуял что-то — зрело, увесисто, матерым мужицким нюхом чуял, как старый кедр, звеня сердцевиной, чует приближение весны…
А дочки ничего, они только радовались и предвкушали, что будут с дитем нянькаться. Сами комнату выбелили, детскую кроватку вынесли из кладовки, белой эмалью покрасили. Анютка мягоньких пеленок из ветхих пододеяльников загодя нашила.
…Сын родился к зиме, здоровенький, крупный, завопил сразу крепким басом. Выдался в смуглую черноволосую родню Леонтия Павловича — единственный из всех детей.
«Не подвела, старая», — с непривычной нежностью подумал о теще Леонтий Павлович после того, как едва оклемался от радости через неделю. И в честь рождения долгожданного сына простил покойницу раз и навсегда.
Сервиз на двенадцать персон
Сорок пять лет — это, если взглянуть с невысокого места, не так уж много. Всего-то половинка обещанной дедами-старожилами жизни. Обидно, что промелькнули, как автобус за углом. Но вспоминать начнешь — и вот оно, рядом, и молодость, и все, что к ней прилагалось: свидания с небесноглазым пилотом (мамочка, я летчика люблю), слова и ночи, такие медовые, что хотелось навсегда утопнуть в их сладости, жизнь будто на изломе, на вздохе-вскрике обморочных поцелуев. Через какое-то время — его мелкие измены, вроде бы даже необходимые для сугреву и пылкости чувств, а по прошествии нескольких месяцев — крохи рассеянного внимания, жадно собираемые ею в копилку любви.
Из материального в копилке остался германский фарфоровый чайный сервиз на двенадцать персон, подаренный им 8 Марта в самом апогее отношений, — конфеты же были съедены, и цветы засохли. Нина поняла, что беременна, но было поздно что-нибудь предпринимать, а летчик-залетчик уже не церемонился и честно сказал:
— Что ж ты, глупышка, не предохранялась-то? Видела ведь, не семьянин я по нутру.
Окна от тоски дымились и плавились. Нина поверить не могла, прямо как Винни Пух: «Куда мой мед деваться мог?» — а он смог, липовенький, и дальше потек по глупым девкам и семьям, капая всюду сладким своим медом-ядом.
Когда оконная рама перестала сводиться к фокусу неуловимого летчицкого силуэта, Нина родила дочку Верочку и разбила копилку. А сервиз разбивать не стала — зачем? Поставила на полку, но не пользовалась им. Какой-то он был неродной в ее простенькой комнате и жил за стеклом серванта своей отдельной заграничной жизнью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу