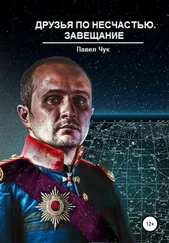Когда суматоха немного улеглась, оказалось, что Мор-Замбу, обезумевшего от страха или, скорее, от ярости, удерживает и прикрывает своими костлявыми, лихорадочно трясущимися руками какой-то старик, время от времени трубящий в рог. Их окружают обменивающиеся ядовитыми замечаниями женщины, которые покатываются со смеху; подростки, предводительствуемые сыном Ангамбы, носятся в нелепом и в то же время угрожающем хороводе, явно не желая подчиняться увещеваниям дряхлых старцев, стоящих в сторонке и убеждающих этих сорванцов не мучить пришельца прямо на дороге, которая, как известно, является местом священным; мужчины, подоспевшие к месту происшествия с опозданием, беспокойно и недоуменно переговариваются, расспрашивают о том, что случилось, и о виновнике случившегося, пытаются вникнуть в суть дела, а заодно и утихомирить разбушевавшиеся страсти. А в самой гуще толпы Ангамба как ни в чем не бывало продолжает поносить этого малолетнего бродяжку, этого приблудного щенка, который осмелился отплатить обидой и оскорблением за проявленную о нем заботу — самую великодушную, самую бескорыстную, какую только можно себе представить.
Уже мгновение спустя взволнованный старец, держа Мор-Замбу за руку, которую тот ему доверчиво протянул, повел юного странника в поселок, куда они вступили размеренным шагом как раз в тот миг, когда разгоревшаяся заря разогнала наконец последние клочья тумана и весь Экумдум разом пробудился к жизни.
Хотя Мор-Замба и обрел приют в недоступном никакому посягательству жилище старика, в тот день ему не дано было насладиться покоем. Женщина, которая возилась в соседней комнате, поспешила принести им завтрак, дымившийся в деревянных плошках. К большой радости хозяина, дичившийся ребенок недолго заставил себя упрашивать и набросился на еду с таким же аппетитом, каким отличился на шоссе во время нападения. Старик подозревал, что Мор-Замба уже давным-давно не брал в рот горячего, но поостерегся пускаться в расспросы, и, судя по всему, гость остался благодарен хозяину за его деликатность.
Но не успел Мор-Замба покончить с завтраком, как снова начались его мучения. Вернувшись к забаве, которая так пришлась им по вкусу, экумдумские сорванцы, не рискуя переступить порог дома, столпились перед дверями и принялись улюлюкать, издеваясь над мальчуганом, высмеивая его, как они говорили, прожорливость. Кое-кто предпринял даже обстрел дома снарядами небольшого калибра, остальные ограничились оскорбительной бранью. Вслед за тем семья Ангамбы, словно на нее возложена была миссия не давать покоя юному страннику, выслала на разведку мать семейства, которая бесцеремонно ввалилась в жилище мудрого старца и без тени смущения учинила Мор-Замбе настоящий допрос.
— Ну, малыш, — начала она медовым голосом, — откуда же ты идешь? Из каких краев? Какого ты племени? — А потом, взбеленившись, заорала: — У тебя спрашивают, кто твои родители, какого ты племени, и куда изволишь направляться, а ты ничего не отвечаешь! Да что же это в самом деле за ребенок такой, если он не отвечает на вопросы взрослых? Неужели тебя не научили уважать старших? Почему ты сбежал от родителей? Почему ушел из дому? И куда ты в самом деле идешь? Да ответишь ли ты наконец?
Нет, Мор-Замба не был расположен отвечать; он продолжал спокойно есть. Он изголодался — вот единственное, что было достоверно известно о юном страннике, который, казалось, поклялся унести свою тайну в могилу.
Тем временем, вняв увещеваниям почтенного старца, которого чуть не доконал весь этот шум и гам, осаждавшие дом шалопаи рассеялись, а вслед за ними, поколебавшись, удалилась и жена Ангамбы, не преминув метнуть с порога в Мор-Замбу такой уничтожающий взгляд, что можно было подумать, будто она питает к нему давнюю ненависть.
Оставшись наедине с гостем и дождавшись, когда тот покончит с завтраком, старик сказал:
— А теперь, сынок, ты волен поступить, как сочтешь нужным. Передохнешь, сколько захочешь, а потом можешь пускаться в путь, если к этому лежит у тебя душа. Но, может статься, ты пожелаешь изведать дружбу старика, любовь отца, которому провидение не даровало сына; в таком случае мой дом — твой дом и все, что принадлежит мне, — твое.
Украдкой поглядывая на упорно молчавшего мальчика, сердобольный старик чувствовал, что какая-то смутная и безграничная боль зарождается в нем при виде этого создания, которое, разумеется, не могло само собой появиться из-под земли, как молодой росток, а должно было, подобно всем нам, зародиться в материнском лоне; которое знало раньше других людей, жило в других общинах и, не найдя себе места ни в одной, покидало их, снова и снова неизменно уходя прочь. Какая диковинная черта природного склада понуждала его к вечному бегству, сжигала его, как ненасытное пламя? Какая напасть вырвала это дитя — и, быть может, навеки — из круга обычных людских радостей и невзгод и замуровала в ночи одиночества?
Читать дальше
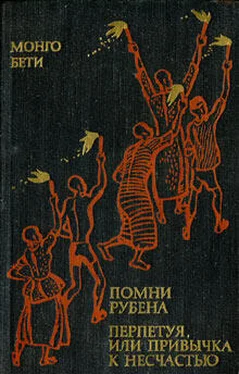
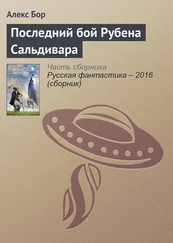





![Лора Гарнетт - Привычка гения [Как одна привычка может полностью изменить вашу работу и вашу жизнь] [litres]](/books/385616/lora-garnett-privychka-geniya-kak-odna-privychka-mozh-thumb.webp)