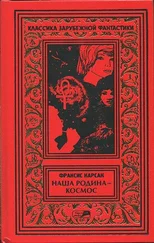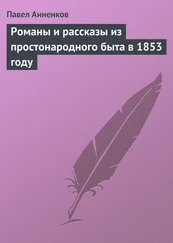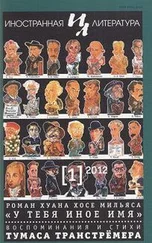Я не успел вернуться в город, как уже прощаюсь с ним. Хочется сохранить в памяти каждое место, каждую минуту последнего вечера, красный кирпичный цвет уютных улиц, аромат лиловых цветов глицинии, небольших заросших садов, которые иногда возникают за деревянной оградой, в пространстве между домами; их влажная сень и густота растительности вызывают в моей памяти сад церкви Святой Марии — в те особенно дождливые вечера, когда вода низвергалась из фигурных желобов между арками галереи, и этот шум эхом отдавался под ее сводами. Я продвинулся на запад, оставив позади Пятую авеню, и, немного не дойдя до Шестой, почти на углу Одиннадцатой улицы обнаружил сефардское кладбище, которое однажды мне показал мой друг Билл Шерзер; до того момента я как-то не обращал на него внимания, хотя часто бродил по этим местам, направляясь в нижний район авеню, которые здесь теряют свою чопорность, а на пересечении Челси и Гринич-Виллидж и вовсе обретают богемный вид — из-за лотков со старыми книгами и пластинками, магазинчиков экстравагантной одежды, круглых столиков кафе, расставленных на тротуаре, витрин чудесных итальянских маслобоен. Мы не раз заходили в одну из них, в «Балдуччи», но никогда не обращали внимания на этот узкий и сумрачный сад за решетчатой оградой; табличка, на которую мы, вероятно, тоже не обратили бы внимания, если бы Билл нам ее не показал, гласила, что в начале XIX века здесь находилось испано-португальское еврейское кладбище. Дед и бабка Билла приехали на Эллис-айленд как раз в то время, сбежав из России от голода и погромов.
Среди деревьев, зарослей папоротника, плюща и бурьяна, виднеется несколько каменных плит, потемневших от влаги и непогоды и настолько стершихся, что едва можно различить надписи, которые на них когда-то были выбиты, — еврейские или латинские буквы, какое-нибудь испанское имя, звезду Давида. Однако ограда закрыта, и нет возможности зайти на крохотное кладбище; впрочем, даже если бы можно было дотронуться до каменных плит, вряд ли я бы ощутил что-либо, кроме неровности и шероховатости камня, углы которого сгладились со временем, стерлись до такой степени, что след человеческого труда почти исчез, точно так же как обрушившиеся колонны и фрагменты капителей на развалинах в Риме постепенно возвращаются в первоначальное состояние грубого камня. Да и кому под силу восстановить имена, которые были выбиты на этих плитах двести лет назад, — имена людей, которые существовали с такой же полнотой, что и я, у которых были свои воспоминания и желания; возможно, эти люди могли на протяжении череды изгнаний возвести линию своего рода к городу, вроде моего, к дому с двумя звездами Давида по обе стороны дверного проема где-то в районе узеньких улочек, обезлюдевших весной-летом 1492 года. Стоя перед оградой небольшого кладбища, зажатого между высокими стенами домов, я испытываю печаль, словно в дождливый и туманный день в Нью-Йорке вновь повстречался с тенями своих соотечественников, встретился — и уже прощаюсь, потому что завтра уезжаю и не знаю, вернусь ли, доведется ли мне как-нибудь еще остановиться на этом самом месте, возле могильных плит со стершимися именами, навеки выпавшими, как и многие другие, из поминального списка испанской диаспоры, исчезнувшими с карты испанских захоронений в стольких некрополях по всему свету. Надгробия, безымянные могилы, нескончаемые списки умерших. В окрестностях Нью-Йорка есть кладбище, расположенное среди зеленых и пологих холмов и исполинских деревьев, которое называется Врата Неба; с его озер в осенние дни взлетают огромные стаи перелетных птиц. Среди тысяч надгробных плит, посередине ряда могил с ирландскими фамилиями, есть одна, на которой проставлено испанское имя; она настолько неприметна и не отличается от любой другой, что на нее очень трудно обратить внимание.
Федерико Гарсиа Родригес 1859-1945
Разве мог предполагать этот человек, что его могила будет находиться не на кладбище в Гранаде, а в другом конце света, среди лесов на берегу реки Гудзон, или что он переживет своего сына, у которого и вовсе не будет могилы — хотя бы камня, которым было бы обозначено точное место в овраге, где его расстреляли. Скромные надгробия и братские могилы отмечают путь испанской диаспоры; мне хотелось бы побывать на французском кладбище, на котором в 1940 году, в тот самый момент, когда обрушилась Европа, был похоронен Мануэль Асанья, прочитать имя Антонио Мачадо на надгробной плите в Кольюре. Для тех, для кого не нашлось ни плиты, ни надписи, осталась строка в алфавитном перечне имен: на странице Интернета я обнаружил список — белые буквы на черном фоне — сефардов с острова Родос, отправленных немцами в Освенцим. Наверно, следовало бы прочесть эти имена — одно за другим — вслух, как скорбную и безысходную молитву, чтобы осознать, что ни одно из этих имен незнакомых тебе людей нельзя свести всего лишь к цифре некоей жуткой статистики. Жизнь любого из них была не похожа ни на какую другую, как неповторимы были их лица и голоса, и ужас смерти каждый испытал по-своему, пусть и среди стольких миллионов подобных смертей. Как после этого отважишься сочинять, отдаваясь пустой игре воображения, если столько жизней заслуживало, чтобы о них рассказать, каждая из них — целая повесть, переплетение нитей, которые тянут за собой другие повести и другие жизни.
Читать дальше