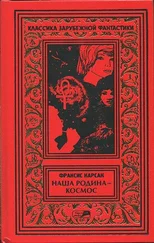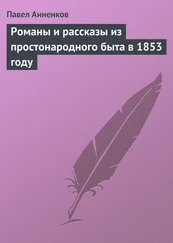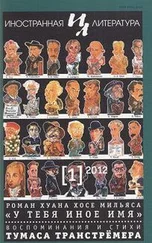Одна одинокая прогулка сливается с другой, словно сон, плавно переходящий в другой, и вечер в Германии растворяется в дождливом вечере десять лет спустя по другую сторону океана, хотя между ними есть кое-что общее: это пронзительный запах мокрой листвы и земли, переполненной влагой, — правда, герой не уверен, что он остался все тем же самым. Как-то раз, в одно из мгновений этого десятилетнего периода, он открыл для себя то, что ни для кого не является тайной, но, тем не менее, нет человека, который готов с этим согласиться. Теперь он знает — и это неизменно присутствует в его сознании, — что смертен, ибо ему стало известно об этом, когда он находился на грани смерти; ведает он и о том, что отпущенное ему время — это подарок то ли судьбы, то ли медицины, и эта прогулка на склоне дня по тенистым и тихим улицам Нью-Йорка могла и не состояться, и что, если бы он не пересекал сейчас в западном направлении, испытывая легкое головокружение, Пятую авеню в районе Одиннадцатой улицы, с плащом и зонтом в руках, абсолютно ничего бы не произошло, никто бы не заметил его отсутствия, вокруг не произошло бы ни малейшего изменения — ни в этих домах из красного кирпича с высокими каменными лестницами, которые ему так нравятся, ни в аллеях гингко с листьями в форме веера — еще совсем молодыми, нежно-зелеными и такими же блестящими, как листья глициний, обвивающих фасад до самого карниза и порою вплетающихся в металлическую геометрию пожарных лестниц. Он также знает, что вполне могло так случиться, что ему никогда не удалось бы вернуться в этот город, и, так как это могло произойти очень легко и осталось всего день-два до отъезда, он боится, что этот раз — последний; сознание хрупкости жизни — ибо нить жизни любого человека настолько тонка и ее так легко прервать — придает ценности его прогулке, которую он проделывал не раз, но теперь не исключено что последний. Помимо названий городов и имен женщин, которые с детства влияли на ход его жизни и на его воображение, теперь появилось еще одно слово — оно, словно скорпион, вползло в этот ряд слов, определяющих его судьбу. Точно так же как Франц Кафка никогда не упоминает в своих письмах слово «туберкулез», он никогда, даже мысленно, не произносит слово «лейкемия», опасаясь, что стоит его произнести — скорпион тотчас же вонзит свое жало.
Он шагает на запад, куда ведут его ноги, в поисках тихих мощеных улочек, притаившихся у самого Гудзона, на краю обширной пустыни заброшенного порта, к пристаням которого когда-то пришвартовывались суда, приплывавшие из Европы. Сохранились только гигантские сваи, догнивающие в серой воде, а из трещин платформ, к которым корабли приваливались боком, прорастает тростник и бурьян — точно так же, как среди обломков колонн храма, лежащего в руинах. На некоторые пристани вход запрещен, другие превратились в детские площадки и спортивные сооружения. Когда-то по этим деревянным сходням ступали толпы беженцев из Европы, которые со страхом и изумлением взирали отсюда на город. Вдоль реки идет дорожка, предназначенная для тех, кто бегает, катается на роликовых коньках или степенно выводит на прогулку свою собачку. По другую сторону реки, достигающей почти океанской шири, виднеется берег Нью-Джерси — узкая полоса деревьев, прерываемая то уродливыми промышленными ангарами, то башней какого-нибудь жилого дома, то огромным кирпичным сооружением, которое издали кажется зубчатыми воротами в стене вавилонского или ассирийского города, — как раз напротив точно такого же на этом берегу реки. Эти сооружения казались мне весьма таинственными, поскольку не имели окон, и я не мог представить себе их назначения. Они были чем-то вроде башен Ниневии или Самарканда, правда, воздвигнутых не где-нибудь посреди пустыни, а на берегу Гудзона; позже я узнал, что в этих зданиях располагаются огромные вентиляторы туннеля имени Линкольна, который проходит под рекой; когда едешь на такси по этому мрачному и бесконечному туннелю, охватывает тягостное чувство, что тебе никогда не выбраться наружу, и каждую секунду ощущаешь нехватку воздуха.
Вдали в южном направлении вздымается гряда самых современных небоскребов нижней части Манхэттена, тех, что выросли вокруг башен-близнецов; в них только тогда проглядывает красота, когда они окутаны туманом, или же красноватые лучи заходящего солнца, отражаясь в гранях, превращают их в некое подобие медной призмы. В этот туманный и дождливый вечер воды Гудзона такого же серого цвета, что и небо, а верхняя часть небоскребов теряется среди движущихся темных облаков, в которых, словно угли под легким слоем золы, вспыхивают красные огни громоотводов. Можно различить почти растворившиеся в тумане статую Свободы и стройные кирпичные башни Эллис-айленда.
Читать дальше