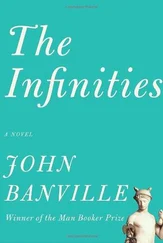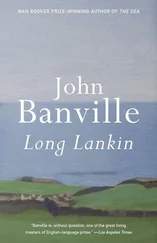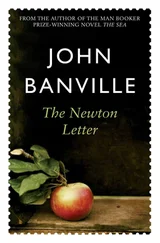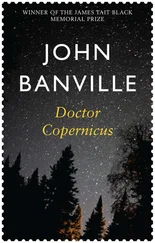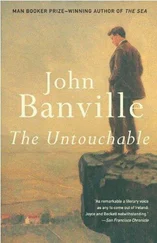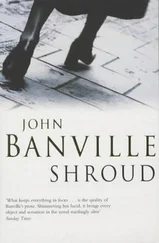Перекладывая мясо на блюдо, Чарли несколько кусков уронил на пол. Вообще с кухонной утварью он был не в ладах: подносы, половники, прихватки оживали в его руках и начинали жить своей, самостоятельной, жизнью – норовили выпрыгнуть, вывернуться, выскользнуть у него из рук. Мы отнесли наши приборы в столовую и сели за стол, под чучелом совы, не сводившей с нас своего злобного остекленевшего взгляда. Мы допили початую бутылку «поммероля», и Чарльз откупорил другую. Он по-прежнему изо всех сил старался избегать моего взгляда и ради этого улыбался абсолютно всем окружавшим его предметам: полу, мебели, каминным щипцам, как будто все привычное, избитое, каждодневное предстало ему в совершенно новом, непривычном свете. В высоком окне у меня за спиной пламенело заходящее солнце. На вкус мясо напоминало жженый мех. Я отодвинул тарелку, повернулся к окну и посмотрел на гавань. Через все окно длинной трещиной проходила огненная нить заката. Что-то напомнило мне Калифорнию: и солнце, и маленькие яхты, и вечерняя позолота моря. Я так устал, так устал, что мог бы, кажется, все бросить и, точно морской ветер, вылететь из этих стен и раствориться в летних сумерках – никому не ведомый, беззаботный, свободный. Чарли раздавил намокший окурок о край тарелки. «Читал про Бинки Беренса?» – спросил он. Я подлил себе вина. «Нет, а что случилось, Чарльз?»
Кстати, что бы я делал во всей этой истории без спиртного, без его притупляющего действия? В те дни я стремительно переходил из одного пьяного равновесия в другое, наподобие того, как беглец, спасая свою жизнь, перепрыгивает, скользя и спотыкаясь, с камня на камень. Даже цвет выпивки (синий – джина и красный – бордо) – не является ли он символом моего дела, моих свидетельских показаний? Теперь, когда я отрезвел навсегда, я вспоминаю это время (да и всю свою прошлую жизнь тоже), как непрерывную, хотя и не особенно веселую попойку, которая рано или поздно кончится – я это знал наперед – мучительной головной болью. Что ж, всякая пьянка кончается похмельем, и тут уж ничего не поделаешь.
Остаток вечера, насколько я помню, явился для меня целой серией тяжелых нокаутирующих ударов. Тогда-то я и узнал впервые, что у моего отца была любовница. Сперва я очень удивился, потом – обиделся. Выходит, меня он использовал в качестве алиби, прикрытия! Пока я часами сидел на заднем сиденье машины, неподалеку от яхт-клуба, в Дун-Лэаре, он занимался любовью со своей красоткой. Звали красотку Пенелопа – вы только подумайте, Пенелопа! И где же, интересно знать, они встречались, где эти голубки свили свое укромное гнездышко, с розочками над дверью и зеркалом на потолке спальни? Чарли пожал плечами, «Они приходили сюда», – сказал он. Сначала я даже не понял, что он говорит. «Сюда?! Сюда? Но как же…» Он снова пожал плечами и изобразил на лице нечто вроде улыбки. «Мама ничего не имела против. Иногда она даже оставляла их пить чай. Они с Пенелопой обменивались журналами по вязанью. Понимаешь, она знала… – Тут Чарли умолк, потрескавшаяся кожа у него на щеках слегка покраснела, и он засунул палец под воротничок рубашки. Я ждал. – Она знала, что я… неравнодушен к твоей… к Долли», – выговорил он наконец. У меня голова шла кругом. Я хотел было что-то сказать, но Чарли перебил меня, сообщив, что Бинки Беренс тоже ухаживал за моей матерью; он стал рассказывать, как Бинки приглашал ее вместе с моим отцом в Уайтуотер и спаивал отца, чтобы тот не замечал его игривого взгляда и нескромных прикосновений. А потом моя мать рассказывала все Френчу, и они вместе покатывались со смеху… Чарли покачал головой и вздохнул: «Бедный Бинки…» Я сидел, изо всех сил пытаясь прямо держать бокал, и не верил своим ушам, я был ошеломлен, я чувствовал себя ребенком, впервые услышавшим о свершениях богов. Они, эти несообразные, устаревшие и далеко не безгрешные персонажи со своими тайнами, одиночеством и невероятными увлечениями, толпились в моей бедной, гудевшей от выпитого голове. Чарли говорил обо всем этом как о чем-то само собой разумеющемся – с сожалением и в то же время не без некоторого удовольствия. Говорил так, будто меня тут не было, воспринимая мои удивленные повизгивания и похрюкиванья с легким недоумением. «А вы, – начал было я, – что было у вас с моей…» Эту мысль мне трудно было выразить словами. Чарли бросил на меня игривый и в то же время отрешенный взгляд.
«Давай, – сказал он, – допивай бутылку».
По-моему, в тот вечер он что-то рассказал мне о моей матери, но что именно – не помню. Зато хорошо помню, как, уже совсем поздно вечером, я звонил ей в Кулгрейндж, сидя на полу в темной прихожей и поглаживая, точно кошку, лежавший на коленях телефон. Слышно было плохо, голос матери доносился откуда-то издалека, терялся, пропадал. «Фредди, – сказала она, – ты пьян. – Она спросила, почему я не вернулся. – Забрал хотя бы свой чемодан». – «Мать, как же я могу теперь вернуться домой», – подмывало меня сказать ей. С минуту мы молчали, а потом она сообщила, что звонила Дафна, спрашивала, где я, чем занимаюсь. Дафна! За последние дни я не вспомнил о ней ни разу. Дверь на кухню была открыта, и из прихожей я видел, как Чарли наводит порядок, как гремит горшками и кастрюлями, делая вид, что не слышит, о чем я говорю. Я вздохнул, и вздох этот перерос в легкий, едва слышный стон. «Мать, – сказал я, – у меня неприятности, большие неприятности». В трубке (а может, у меня в голове?) раздался треск, как будто много птиц одновременно громко захлопали крыльями. «Что? – переспросила она. – Что? Не слышу – что ты сказал?» Я засмеялся, и по щекам у меня сбежали две большие слезы. «Ничего! – прокричал я. – Ничего, не важно! – А потом спросил: – Послушай, ты знаешь, кто такая Пенелопа? Тебе это имя что-нибудь говорит?» Я был потрясен собственным вопросом. Зачем было спрашивать об этом, причинять ей боль? Она помолчала, а потом рассмеялась. «Эта сука? – сказала она. – Разумеется, я про нее знала». Чарли, с тряпкой в одной руке и с недомытой тарелкой в другой, остановился в дверях и уставился на меня. Свет падал сзади, и лица его я разглядеть не мог. Последовала очередная пауза. «Ты не щадишь себя, Фредди, – сказала наконец мать далеким, чужим голосом, – ты совсем себя не щадишь». Я не понял, что она имеет в виду. И не понимаю до сих пор. Я немного подождал, но она больше ничего не сказала, я же говорить был не в силах. Это были последние слова, которыми мы обменялись. Я осторожно положил трубку и не без труда поднялся на ноги. Затекло колено. Я прихромал на кухню, где Чарли, с закатанными рукавами и в расстегнутом на спине жилете, мыл посуду, согнувшись над раковиной и не выпуская изо рта сигарету. Небо за окном было каким-то сине-фиолетовым; такую красоту я видел, кажется, впервые в жизни.
Читать дальше