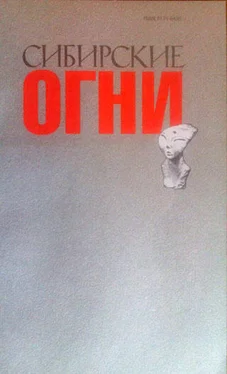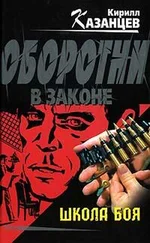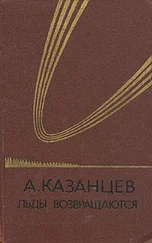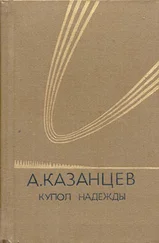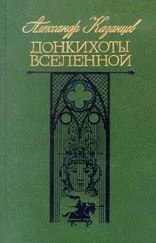Когда мы приезжали в Зыряновск, не упускала случая упрекнуть Елену, указать, что делает она все не так: драники синими получились, пуговица на моем пиджаке не на место пришита, не в те чашки чай налит… Даже Еленина чистоплотность раздражала маму: невестка, мол, едва приехав, за тряпку берется — лишь бы ее, хозяйку, укорить в нерадивости…
В штыки принимались и рассуждения Елены о Боге, о религии, в лучшем случае мама иронически хмыкала: «От большого ума, что ли, свихнулась?» Еще болезненней была реакция мамы на политические споры, а мы ведь по молодой глупости, особенно Елена, их не чурались. Еще как горячились!.. И тогда уж в такие споры встревал мой отец, прирожденный молчун, обзывал нас «диссидентами». По его мнению, порок диссидентства был из числа наиболее тяжких… Я уже поминал, кажется, что никогда мои родители не были в партии, считали себя недостойными, но непоколебимой была их вера в коммунистические идеалы, потому так возмущало наше вольнодумство. Мама еще и пугалась: «Костя ведь на виду, печатается, а за такой настрой по головке не погладят». И, конечно, в моем вольнодумстве винила исключительно Елену.
Вражды не было, но и согласие было зыбким.
Мамина ревность особенно возросла перед рождением Машуни: не могла никак смириться, что может отодвинуться для сына даже не на второй, а на третий план.
В то лето мы как раз окончили институт, Елена была уже на пятом месяце, но внешне почти не изменилась. В Зыряновск мы приехали погостить всего на две недели, столько же решили провести в Киргизии, у Елениных родных. Маму очень задело, что с ней я буду меньше обычного, да мы с Еленой еще и на Бухтарминское водохранилище, которое в моих краях гордо именуют морем, на три дня уехали — купались до одури, загорали. Вернулись — у Елены высокая температура, пережарилась на солнце. Я не на шутку запаниковал: слыхал, что в таких случаях будто бы выкидыши бывают… Нет, вовсе не заговорил во мне «могучий инстинкт отцовства», просто за Ленку испугался.
Все обошлось, но обида и ревность мамы стали еще сильней: ведь она больна, давно и неизлечимо, а я от затемпературившей женушки не отхожу…
Перед нашим отъездом улучила момент горько шепнуть мне: «Украли у меня сыночка!..»
А после рождения Машуни, узнав, что деньги, присланные по этому случаю отцом, я израсходовал на дешевенький черно-белый телевизор, мама выговорила мне за это в письме: разве можно, мол, так по-ребячески поступать, вместо того чтобы позаботиться о полноценном питании, ты деньги тратишь на телевизор для жены, ей надо ребенком заниматься, а не у телевизора сидеть, и вообще не до роскоши вам сейчас…
Пренебрежение к «вещизму» пошло у меня от мамы, но уже тогда согласиться с ней не мог, впрочем, как не мог и объяснить ей, что телевизор давно уже не роскошь. Ответил, что в первую очередь он нужен мне, чтобы не пропустить ни одной поэтической передачи — любая ссылка на мои занятия стихоплетством маму, в отличие от отца, всегда убеждала, она гордилась каждой моей публикацией, а к тому времени они у меня и в столице появляться стали, даже первая книжка там же была обещана.
Только рано мама радовалась тому, что, не оставляя поэзию, я занялся наукой. А она прямо-таки ликовала — ведь по ходатайству писательской организации Томска ректорат оставил нас с Еленой работать на той же кафедре, где мы учились, хотя распределены были на далекую АЭС. Так проникся тогда ректор пониманием, что даже выделил нам комнату в общежитии сотрудников Политеха, наставляя при этом: «Стихи стихами, но ты, Константин, про науку не забывай — совмещать можно: Бородин ведь тоже химиком был, а какую музыку оставил!..»
Мама тоже твердила в письмах, что, дескать, «можно совмещать». Но в том-то и дело, что это у меня почти сразу стало не получаться: приходя на работу, облачаясь в белый халат, я чувствовал себя ряженым. Облучая образцы на ускорителе или «электронной пушке», анализируя их потом, строя графики, обсчитывая результаты, никак не мог отделаться от ощущения, что это лишь игра в науку. При этом вовсе не сомневался, что при желании смогу защитить диссертацию, да вот не находил в себе такого желания…
Тогда я надеялся стать большим поэтом…
Солидным, даже по тем временам, тиражом вышла в Москве моя книжка. Такая тоненькая, будто специально по щели почтового ящика вымерялась, но, несмотря на это, радость и гордость мои были неописуемы. Стали приходить письма от читателей, совсем незнакомых людей, которым поглянулась моя книжка или стихи в журналах, даже польский переводчик предложил вдруг свои услуги.
Читать дальше