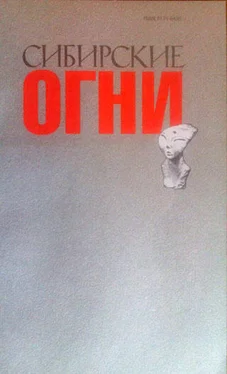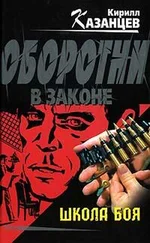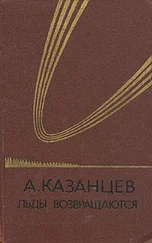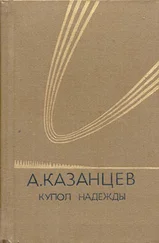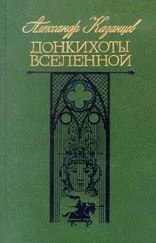Эти самодовольные соображения попримяли ненадолго мою тревогу и чувство вины, но потрапезничать с пилотами отказался, завалился спать, чтобы завтра настало скорей, успел подумать: да все будет хорошо, завтра прилечу в Зыряновск, успею спасти маму, искуплю вину, иначе быть не может…
Утром удалось улететь первым же рейсом, не пришлось даже вынимать писательский билет, к чему я уже был готов.
Небо расчистилось. Я летел над сверкающими белизной хребтами, но не радость трепетала во мне, поднимался полегший было колючий чертополох вины и тревоги. Думал: давно уж только летом удается мне ненадолго вырваться в родные края, зимой был лишь на похоронах бабушки восемь лет назад… Неужто теперь только с горем связываться для меня будут снежные пейзажи моей родины?..
И получаса не прошло, самолет мой приземлился в новом зыряновском аэропорту, выстроенном совсем недавно в межгорной долине Бухтармы. Старое здание аэропорта было деревянным, мало чем от обыкновенной избы отличалось, а это — кирпичное, пусть и небольшое, зато нестандартное.
Автобус пришлось ждать долго, но я вдруг понял, что, ожидая, не очень-то поторапливаю его приход, боясь возвращения в родной дом. Не раздосадовала меня и обычная давка в автобусе, даже чуть ли не радовался всем локтям, отпихивающим меня, всем кулакам, колотящим в спину с требованием продвигаться вперед: ведь отвлекают от черных предчувствий… Но с грустью отметил, что ни одного знакомого лица в автобусе, будто в чужом краю, и столько нынче раздражения в моих земляках — кругом перебранки, а если разговоры завязываются, так опять же с руганью: в магазинах, мол, шаром покати, порядка никакого, а правителям, так-растак, до народа дела нет!.. Ни шуток, ни смеха, тогда как раньше хоть один да находился балагур, порой и песни затевались… Правда, ближе к кабине водителя, там, где места для пассажиров с детьми и инвалидов, старуха в ветхом грязно-зеленом пальтишке, с жалкими остатками неопознаваемого уже меха на воротнике, вдруг пьяненько затянула: «Лапанда, горная лапанда!..» Едва успел подивиться тому, что столь пожилая особа блажит навязший на зубах шлягер, слова перевирая, как разглядел, что «старухе» этой лет сорок пять, не больше: спилась, истаскалась, голос бито-стеклянный… Первый куплет не допев, песню скомкала, дряблой рукой махнула и давай власти костерить за «антиалкогольный указ» — понесла по ухабам матов, злобу вымещая, что пришлось ей, подругу дорогую провожая, весь свой одеколон выпить… И так всю дорогу до города…
От автостанции пошел я пешком, даже не отдавая себе отчета в том, что из-за боязни растянуть время пытаюсь. Вот он, мой городок, вот она, Орел-гора, от встречи с которой всегда дух захватывало. Мартовский осевший снег изъеден сажей от чертовой дюжины зыряновских котелен, грязно…
Вот уж и дом мой показался — пятиэтажный, серо-зеленый, обшарпанный, как почти все дома в городке, переставшем быть «флагманом добычи полиметаллических руд». Этот дом приходится называть теперь родным, а тот, прежний — приземистый восьмиквартирник на Геологической улице, драным толем крытый, — давно снесен, бульдозер старательно разровнял место, где он стоял, но я, хоть и через полвека, если жив буду, непременно отыщу его — из-под земли теплом потянет, и с закрытыми глазами увижу свои настежь распахнутые окна на втором этаже, разгляжу даже выжженное на раме увеличительным стеклом имя «Светланка»… Стоит этот домок-горбунок в моей памяти всем бульдозерам назло, а в этой серо-зеленой пятиэтажке прожил я всего два года, не успел душой прикипеть, но здесь живут мои родные, здесь мама… если еще живет… Двор наш безлюден, лишь ребятишки в грязном снегу возятся, я их не знаю — без меня выросли… А вон впереди идет старик в демисезонном, мышиного цвета, пальто, в черной кроличьей шапке. Сутулый такой… Я его тоже не знаю, хоть он идет к моему дому, к моему подъезду, крайнему… Сердце-то как у меня колотится и в горле ком! Тащусь, кажется, медленней того старика, ноги не идут… И вдруг пронзила мысль: да это же отец мой!..
Уже в сумрачном подъезде поймал его за рукав, сказать ничего не смог из-за кома в горле. Отец сперва испугался, вздрогнул даже, потом разглядел меня:
— Приехал?.. Хорошо, Костя, что приехал… — произнес едва слышно и стал молча подниматься по лестнице.
Я шел за ним и боялся спросить, боялся услышать ответ. Думал: раз отец не у маминой постели, значит, она уже умерла, значит, ходил он уже по похоронным делам. Поднимался за ним, глядел в его сутулую спину, и дыхание мое перехватывала двужильная, жгутом туго переплетенная мысль: «Какой он старый стал, а мама умерла!..»
Читать дальше