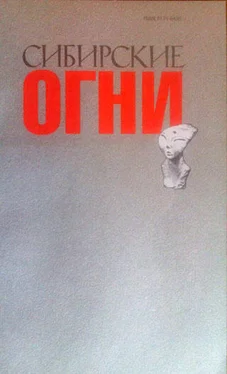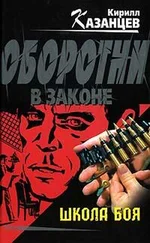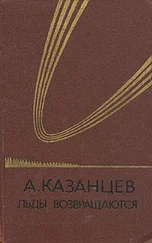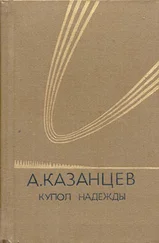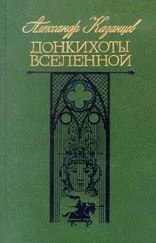Быть может, это антинаучный бред, но он преследует меня давно, до сих пор, а не только тогда, когда метался я, палимый жаром, на зыбкой грани между жизнью и смертью.
Вот тогда-то время и привиделось мне клубящимся, темным, с фиолетовым отливом, туманом, я ощутил даже, судорожно вдыхая воздух открытым ртом, горечь его — горечь времени… Я шел тогда в этой клубящейся фиолетовой мгле, вытянув вперед руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь или на кого-нибудь, потом не шел даже, а летел — неведомая сила влекла, уносила меня в темную воронку, образованную смерчевым завихрением этого тумана, навстречу яркому, но не слепящему свету. Потом, пройдя, верней, пролетев темную воронку, увидел я старика в рваной, лоскутами висящей одежде, явно древней, я бы даже сказал — библейской, пыльной и длинной, подвязанной на поясе сыромятным ремешком. Он был сутул, этот старик, но все равно высок, его сивая борода, а также лохмы на голове клубились, как время, хмуро сомкнуты были густые брови его, а под ними стояли неподвижно полные боли и мрака глаза, они смотрели на меня в упор. И услышал я даже голос старика, вымученный, как бы расплющенный голос: «Прав Аврам, неправедным людям тоже удается порой сотворять красоту, но прахом она становится вскоре, ибо прах ее суть…»
Во сне, в бреду вовсе не догадался я, кто он, этот пронзенный мукой старик, но лицо его показалось мне очень знакомым.
Потом двинулся я дальше (или понесла меня неведомая сила?), фиолетовый туман стелился теперь лишь понизу и не мешал мне видеть даль, озаренную каким-то неживым, голубоватым, что ли, светом, и я заметил другого старика — низкорослого, сухощавого, но не хилого вовсе — жилистого, с венчиком белых волос на большой, плешивой и шишковатой голове. Он кутался в длинную войлочную накидку цвета перепревшего навоза. Скорбными были его выпуклые, устремленные на меня глаза. Я услышал и его слова: «Придет ли когда в этот мир младенец, который сможет свершить то, чего не сумел я: научить людей любви?»
Знакомым, очень даже знакомым показалось мне лицо этого старика, но я не узнал его.
Узнал лишь третьего старца, представшего предо мной. Опираясь на самодельную, отполированную наждачкой и ладонями палку, на ту самую, что обрушилась когда-то на обтянутую спортивными штанами крутую задницу нашей соседки, разметала одним ударом шахматные фигуры и чуть было не походила по моему отцу, так вот, на это орудие праведного возмездия опираясь, супя мохнатые, темные, почти не тронутые сединой брови, стоял мой покойный дед, Иван Кузьмич. Фиолетовый туман времени омывал грубые, потрескавшиеся его ботинки, в него утопала концом своим палка деда, а он стоял невысокий, маленький даже, но гордый, как всегда, кажущийся повыше немного из-за вскинутой головы, а вскинута она была так, что хорошо была видна большая, рваная германской пулей, ноздря, той самой пулей, которая ударила его, когда он выскакивал из окопа, увлекая за собой в атаку оставшихся без командира солдат, вовсе не думая получить за это «Георгия». (Та пуля вошла в нос, срикошетила от шейных позвонков и вылетела через рот, вынеся почти все зубы). Не сводя с меня сурового взгляда, старик спросил: «За что же ты не любил меня, своего деда?.. Или ты вообще никого никогда не любил?»
Не суть даже вопроса, а прошедшее время глагола, произнесенного дедом, пронзило меня жутью. Я хотел закричать, что любил, люблю и буду любить, пока живу, что не умер еще и не хочу умирать, что вот сейчас войдет красивая, совсем еще молодая женщина, которую я люблю, она внесет целый сугроб чистого холодного снега, обрушит его на меня, и не свернется моя кровь, я буду жить, буду любить!.. Но закричал я не словами вовсе, а бессловесным детским воплем, вместившим даже больше, чем слова.
Я вынырнул из воронки времени. Я даже приподнялся на локтях и увидал двоящуюся лохматую старуху. «Это Смерть! — мелькнуло в каленой жаром голове. — Только где же ее коса?» Не коса была в руках старухи, а ружье. В белой рубахе стояла передо мной губастая Глебиха. Узнал-таки я ее. Сперва подумал, что пришла она меня пристрелить за то, что среди ночи свет жгу: вот сейчас жахнет из двух стволов снятой со стены «тулки»… Чтобы образумить ее, утихомирить, сказал, еле шевеля губами: «Елена сейчас сугроб принесет…» — и упал на мокрую от пота подушку. А какие в мае сугробы!..
И опять заклубился фиолетовый, горький на вкус туман. Я убегал от него, он меня настигал, тогда я решил подняться над ним, это удалось очень просто: взмахнул руками и взлетел. Туман уже клубился далеко внизу. Я полетел вперед — туда, где вовсе не было клубящегося тумана. И очнулся опять на мокрой от пота постели. Смутно увидел Елену и еще что-то белое, большое…
Читать дальше