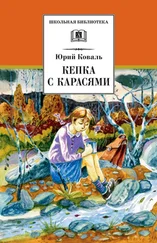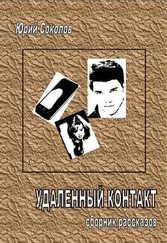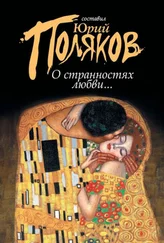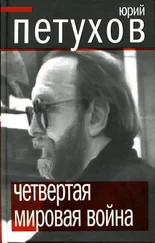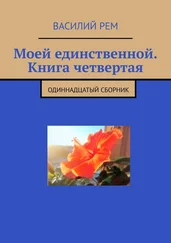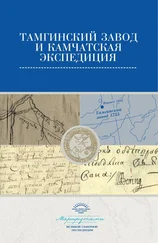В конце концов, они сошлись на том, что надо было заложить точку лазерного зондирования на пологом фланге погребенной складки, где проще всего было достичь нижней части тела с особыми свойствами, если верить сейсмическому атрибутному анализу.
– Проектная глубина 1720 метров, – заключил Линь после моделирования траектории зондирования на компьютере.
– При средней скорости проходки около 200 метров в день это займет 9 суток плюс три дня на подготовку энергетической установки, итого максимум две недели на все, – подытожил Павел.
– Нам еще надо без спешки провести серию спектрозональных измерений, и успеть микропробы отобрать, – напомнил Пол.
– Безусловно, – ответил Павел. – Это следующий этап, и на него у нас всего неделя останется, включая твой экспресс-анализ проб, Пол.
– Это совсем немного, – ответил Пол.
– Знаю, но больше времени нет, – произнес Павел. – Дальше готовим краткие отчеты, архивируем результаты и консервируем станцию.
* * *
На десятый день после этого обсуждения проектная глубина была достигнута, и коллеги приступили к серии специальных экспериментов, главным из которых был спектральный анализ световых пучков, передаваемых по световолоконной оптике из глубины недр. Эта часть исследований проводилась и контролировалась Павлом лично, как специалистом по оптическому спектральному анализу. Он долго всматривался в сложный линейчатый спектр, трансформированный на экран компьютера, и не мог отделаться от мысли, что в наблюдаемой картине есть нечто необычное. В ней было много ожидаемых спектральных линий, соответствующих различным металлам, вплоть до меди и молибдена. Но одна из них, очень слабая, находилась на самом краю оптического диапазона – там, где раньше ничего подобного никто не наблюдал. Причем, она то появлялась, то пропадала.
– Линь, пожалуйста, подключи базу данных со всеми архивными файлами известных спектров и выдели на нашей картинке все значимые компоненты. Особое внимание обрати на правую линию. Она почему-то очень нестабильна.
Линь долго корпел над компьютером, пока подключил архив линейчатых спектров. Потом запустил программу их распознавания. Через несколько минут они получили длинный список химических элементов чуть ли не на половину таблицы Менделеева. Но после работы программы на экране появилось сообщение: «Линия 47 нестабильна или не опознана. Проверьте правильность входных данных!».
– Вот это да! – воскликнул Линь. – Похоже, мы обнаружили неизвестный химический элемент.
– Не может быть! – бурно отреагировал Пол. – Может, это ошибка или сбой программы?
– Да нет, – ответил Линь, – исключено.
– Из какой это группы мы можем определить? – взволнованно спросил Павел.
– Вряд ли, – ответил Линь, – возможно элемент из группы лантаноидов, но это под большим вопросом. Тем более с нашими техническими возможностями не удастся определить атомный номер.
– Теперь надо чрезвычайно тщательно отобрать микропробы. Из них и получим ответ и, если повезет, и атомный номер вместе с атомной массой определим, – произнес Пол, отвечавший в их группе за всю геохимию и радиационные методы. – Однако эту операцию надо тщательно подготовить, чтобы не было досадных промахов и срывов.
– Да, безусловно, – согласился Павел и задумчиво добавил, – похоже, метеоритная теория происхождения поверхности Луны терпит крах.
– Но ведь нас всех долго учили, что лунный рельеф с множеством кратеров формировался несколько миллиардов лет назад под воздействием метеоритных бомбардировок, а не внутренних геологических процессов, – произнес Линь.
– Да, это кажется правдоподобным, – поддержал его Пол, – иначе как еще могли образоваться здесь тысячи больших и мелких кратеров, которые мы в школьные годы, не отрываясь, разглядывали в подзорные трубы и телескопы? Здесь практически то же соотношение химических элементов, что и на Земле. Наш первый американский геолог-астронавт Говард Шмитт говорил, что Луна – это запыленное окно в прошлое Земли.
– Не все так просто, друзья мои, – ответил Павел. Мы с вами как геофизики, больше занимались исследованием физических полей Луны, которые не так уж необычны и часто предсказуемы и объяснимы. Я очень интересовался всем, что связано с Луной, и залез в смежные науки. Несколько лет назад, пытаясь понять Луну как цельное природное образование, я «перелопатил» очень много старых данных по космогонии, минералогии и петрографии Луны (прим. минералогия и петрография – науки о составе и свойствах минералов и горных пород).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
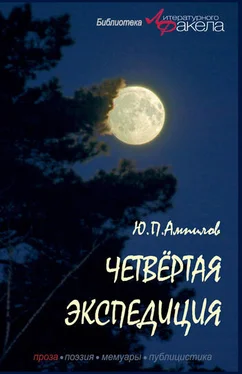


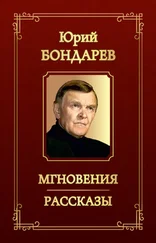
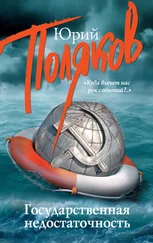
![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/128605/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya-thumb.webp)