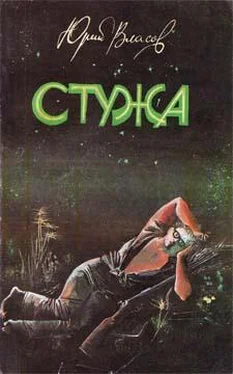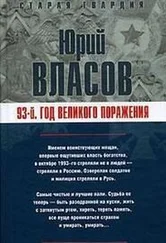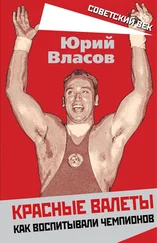— Были годками, пока не помер благодетель..
— Ну-как, ужописто без стульев, прямо на земле? — спрашивает меня безногий.
— Раненых тоже не оголубели, — обильно и очень мокро прокашливается на первую затяжку худой. — В навоз братву… — У худого маленькие, почти женские кисти, а сами руки истощенные, отчего кажутся длинными, как у пьяниц. Он так и не снял пиджак. По-моему, его далее подзнабливает. Затягивается он яростно — на полную грудь. Странно это его выпадение из сонливости.
Пламя изгрызает толстый сук, он распадается, брызжа искрами.
— Проку от этих комиссий. — Худой скашивает на меня глаза; они желтоваты, а веки воспаленно толсты. — Вот в навоз нашего брата — это вполне сознательно, хотя и без злобы. Товар мы бросовый: бабы-то на что? Понесут новых. Копейка нам цена в базарный день. На войне нас — в навоз, без войны морят работой и тюремностью жизни. Организации, права, комиссии! Сила наша только и интересна государству. — Худой несколько раз затягивается, очень жидко сплевывает. — Для отвода глаз все эти благоустройства и обозначения прав. По-честному, до нас никому нет дела. Гребануть поглубже нашу силу — и откупиться подешевле! Падаль мы для всех! Ну, академики, ответьте, кому живется все-таки весело, вольготно на Руси?.. Молчим. Отвечу: секретарям, от районного до генерального, им курвам и таким, как я! Ежели не пить — сдохнешь от России…
Я смотрел на этого человека свысока, почти как на убогого. Откуда в нем такой градус неприятия? Что он несет? Вот таких наш взводный в училище называет отщепенцами.
— …а Некрасов перед смертью исповедовался: пьяному эта Россия в радость. Вру? Возьмите, гляньте воспоминания Кони. Был такой деятель судебной реформы… Да, пьяному только и вольготно на Руси. Степень нашего пьянства всегда была в прямой зависимости от степени свободы. Это еще Прыжов доказал в своих «Очерках по истории кабачества». И крамола вся от кабаков, в кабаках затевалась. Густо спеклось с этим пьянством и горе. И уж в привычку. Так сказать, одна из форм бытия.
Чувствуется, этот человек знает гораздо больше, но разумеет, здесь его знания пусты, да и не верит с некоторых пор в силу знаний.
— Опять тебя! — Безногий тужит шею. — Нельзя пить, Миша. Ты ж на одно нацелен!
— Я пью? — Худой в смешке тычется подбородком в отворот пиджака и тут же с какой-то привычностью и в то же время недоброй иронией начинает бубнить: — Закон единства и борьбы противоположностей характеризует источник развития, переход количества в качество — механизм развития, а закон отрицания отрицания схватывает развитие в его направлении, результате… — Он мягко смеется. При этом кожа на лице коричневой пленкой натягивается по костям.
— Затюкан ты книжной дурью! — Безногий смазывает пот со лба. — Ну что зыришься?! Порча от этих книг! И лыс потому. Эх, мужик!
— Степенью образованности и культуры является ограниченность пьянства в обществе, а степень культуры, культурности есть производная от свободы вообще…
От всего случившегося я застываю в одном положении и теперь начинаю чувствовать солнце. Оно на спине и затылке, и непомерно горячее.
Худой вдруг смотрит на меня, будто узнает что-то. Забытое узнает, давнее… Потом расслабляется и, закрывая глаза, опускается на спину, надвигая на лоб «заклепку». И странное дело: мне легче. Будто безнадежно больной снял заботы с меня и других. Так привлекательны перепела, тяжеловатый жар степи, приволье — я забываю все! Может быть, не хочу помнить. Жить — только жить! К черту слабых!..
За спиной деда Ивана проблески воды: это наши озерца — берега не топтаны. И тут я догадываюсь, отчего здесь столько птицы. Держатся воды. Но разве вода серая? Нет, отливает тускло, почти в цвет берегов. И отражение солнца не ярко, расплывчато-вязко. Перекатило за гребень дня, однако по-прежнему яро заваривает воздух на зное. Мне кажется, воздух проседает зноем. Но в то же время он чист и легок в дыхании.
— А, верно, бедовал при царе, с того, шо раскол завелся, такой юродивый, — Архипыч? — спрашивает меня дед Иван.
Я пожимаю плечами.
— На книги променял степь твой племяш, — Безногий разнеженно улыбается на солнце. — Ишь шарашит, лупоглазое!
— Да хиба ж вин выбирав? — Дед Иван не шибко переменился и после второго стаканчика, хотя даже худой заулыбался и занялся перепелами. Он обгладывает их отталкивающе суетливо. Иногда отпадает от кастрюли и смотрит на степь. И тогда его лицо мякнет и выступает как бы второе — очень спокойное, без затравленности. Совсем мирное лицо.
Читать дальше