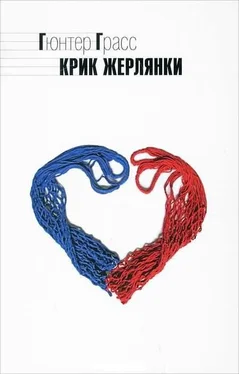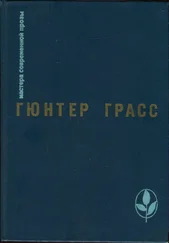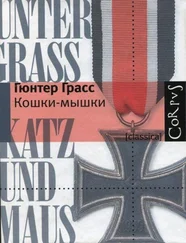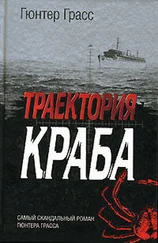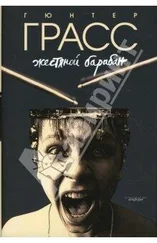Решке, первоначальные опасения которого подтвердились участившимися смертями, тем не менее отверг упрек одного западногерманского журнала, пришедшего к выводу, что «ради извлечения прибыли из ностальгии стариков им строят мрачные ночлежки и едва ли не «покойницкие», которые необходимо прикрыть». В своем опровержении Решке, как распорядитель немецко-польского акционерного общества, указал прежде всего на преклонный — или, по его выражению, «библейский» — возраст умерших. Из тридцати восьми смертных случаев, имевших место со дня открытия первого приюта, семь человек умерли в возрасте от девяноста до почти ста лет; ни один из покойных не был моложе семидесяти. Важно далее учесть, что переезд в Польшу был неизменно исполнением твердой воли покойного, которая повторяется во множестве писем и может быть выражена словами: «Хотим умереть на родине».
От имени наблюдательного совета Фильбранд поблагодарил Решке за четкое опровержение. В дневнике читаю слова, отчасти оправдывающие Фильбранда: «Недавно у нас состоялась беседа с глазу на глаз. Поразительно, до чего серьезна его заинтересованность в экономическом оздоровлении Польши. Трогательна готовность не щадить своих сил. Когда Герхард Фильбранд повторяет «Польше не хватает здорового среднего сословия», то не только Марчак с Бироньским начинают утвердительно кивать головами, но и Врубель с Александрой; кивают все, а потому иногда киваю даже я».
И все же конфликт назревал. Уже на заседании в начале марта почувствовалась нервозность. Фильбранд внес предложение — как всегда, в форме сопоставления затрат и прибыли, результат которого, естественно, оказывался положительным; этим предложением поначалу заинтересовался лишь вице-директор Национального банка. Предусматривалось выделить место для перезахоронения останков, привозимых из Германии в Польшу. Марчак, сразу же поддержавший это предложение, даже назвал дату, с которой мог бы начаться отсчет, — 1 декабря 1970 года, день, когда в Варшаве был подписан первый немецко-польский договор. Всем переселенцам, умершим позднее этой даты, предоставилась бы возможность перенесения их останков на родину. В заключение Фильбранд сказал: «Можно смело рассчитывать на тридцать тысяч заявок и даже больше. Все это, несомненно, окупится. Естественно, я тоже намереваюсь перезахоронить моих родителей, которые умерли в конце семидесятых годов. Наши польские друзья могут быть уверены, что я вполне сознаю, о сколь солидных суммах идет речь. Однако когда дело касается примирения наших народов, то это стоит любых затрат».
Были названы числа с изрядным количеством нулей, хотя имелась в виду твердая валюта. Говорилось о том, что оплата перезахоронения должна быть существенно выше, чем оплата обычных похорон. Тем не менее польская сторона, если не считать вице-директора, проявила сдержанность. Стефан Бироньский как священнослужитель решительно высказался против. Ежи Врубель тихим, но явно взволнованным голосом сказал, что в подобных планах есть «антигуманный элемент». Пентковская, громко рассмеявшись, спросила Фильбранда, насколько его предложение «послужит оздоровлению среднего сословия в Польше». Возник спор, даже перебранка. Короче, то, что было названо Фильбрандом «Проект перезахоронений» и что было дипломатично переименовано Марчаком в «Расширение спектра ритуальных услуг, предоставляемых кладбищем», не получило бы большинства голосов и оказалось бы погребено под лавиной возражений, если бы в Александре Решке вновь не победил профессор.
Он не удержался от того, чтобы прочитать наблюдательному совету целую лекцию, которая названа в дневнике «кратким экскурсом». Последовало довольно нудное изложение имевшихся у Решке сведений о том, как осуществлялись захоронения в церквях. Решке подробно рассказал о высеченных на напольных надгробиях определенных сроках, по истечении которых останки переносились в иное место, а также о перезахоронении праха из семейных могил в родовые склепы приходских церквей; но место там было ограниченным, поэтому небольшие погребальные лари доверху заполнялись черепами, костями и тем самым, по выражению Решке, становились «наглядными символами смерти».
Уверен, что свою лекцию, которая, в конце концов, все испортила, профессор приукрасил рассказами о находках, показанных ему Ежи Врубелем в развалинах церкви св. Иоанна сравнительно недавно, в середине февраля, когда поослабли морозы.
Читать дальше