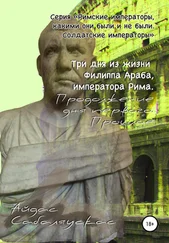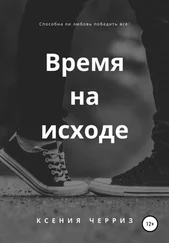— Кушайте на здоровье. И вы, и уважаемый доктор… Нас не обидите, слава богу, ягод хватает. На телеге не увезешь.
Она нахваливала ягоды, словно никакого конверта и в помине не было, и все отводила глаза от моей руки, непроизвольно тянувшейся к конверту и не решавшейся сбросить пару ягод, окрасивших в красное Тракайский замок и уголок конверта, где положено писать адрес отправителя. Из груди женщины вырвался стон, рука вздрогнула и уплыла в сторону. Испугалась, что выставлю вон вместе с корзиной? В конверте деньги, несомненно! Схватил клубнику за хвостик, словно была мне нужна она, а не конверт, лязгнул зубами. Вкус воды, отдающей ржавым железом.
— Кушайте, — продолжала скрипеть посетительница, заговаривая словами и свой и мой испуг. — У нас в местечке все ее сажают. В большой-то город не повезешь — далеко, себе дороже выйдет… Видела у вас в магазинах, каша — не клубника.
В конверте были деньги — что же иное, если не деньги? — и голосом, как раньше взглядом, пыталась она скрыть их существование, становившееся с каждой секундой все явственнее. Мы с опаской косились друг на друга и трусливо прислушивались: не принесет ли перестук шагов на лестнице доктора Наримантаса? Деньги были, одно неизвестно: много или мало? И еще неясно было, что она за них потребует. Клубника пахла уже не медом и солнцем, запретным в нашем доме плодом — взяткой, но так пахли деньги, а деньги мне были нужны позарез!
Бросил в рот вторую ягоду, конверт с деньгами меня ни чуточки не волнует — ха! — даже не замечаю его! Кто может доказать, что вижу, знаю, ощущаю? С показной вежливостью, не скрывая желания поскорее закончить эту очную ставку и вскрыть конверт, говорю:
— Боюсь, доктор появится не скоро Что ему передать?
— Ничего… Там у него один больной. Внутренности ему оперировали. Доктор поймет.
— И все же… Такие отборные ягоды… Хоть фамилию скажите! — Никакого желания что-либо узнать у меня не было, пусть скорее убирается со своей нелепой шляпой, болоньей и поджатыми губами, но конверт обязывал.
— Чужой он мне, совершенно чужой, — пропела легко, почти ласково, и стало ясно, что придумала эти слова, еще трясясь в автобусе и подстерегая доктора, если не обкатала их раньше, в небогатой радостями, размеренной своей жизни, заставлявшей ее так неловко чувствовать себя в большом шумном городе. Видимо, отцу больше бы объяснять не пришлось, другое дело — сыну. — Так уж вышло… Много лет назад… Разошлись мы… расстались. Теперь чужие, совсем чужие! — Голос снова напряженно поскрипывал, скорее стараясь похоронить былое, чем раскопать его, но, потрясая давно потерявшее привлекательность тело, рвалась из глубины его не признающая развода верность, покорная судьбе и ничего не прощающая. Еще до того, как сорвалось с ее губ имя, я уже знал, кто она, знал, что услышу. — Казюкенас его фамилия. — И поспешно добавила, прочитав на моем лице беспокойство: — Вы только доктору ничего не говорите. Зачем? Коли не будет на то воли всевышнего, человек человеку все равно не поможет.
Жутью повеяло от этого, словно на камне высеченного, афоризма. Вероятно, ее бог непохож на того господа, которого частенько поминают другие, произносящие всуе его имя. Я попытался поставить их рядом — ее и Казюкенаса, — не совмещались. В полном разладе были их силуэты, даже тени, даже невидимый, окружающий каждого воздух.
Женщина вдруг повернулась, резанула глазами конверт и, тяжело, по-мужски ступая, вышла. Слышно было, как грохочут на лестнице ее шаги, как шуршит допотопный плащ, пропадая во тьме, но не таяло ее гнетущее упорство, дегтем пристало к двери, к моему лбу, рукам.
— Эй, а корзина? — крикнул было вдогонку. — Корзину-то куда вернуть?
Она не отозвалась, так как в действительности я не крикнул — бессильно пролепетал.
Передок, кардан, тормозная система — деньги были необходимы. Я топтался возле корзины, сердце из груди выскакивало, а конверт взять не решался. Не только потому, что боялся отцовского гнева, всякие пустяковые приношения — серебряная ложечка, коробка конфет — вызывали в доме гром и молнию. Дангуоле интересовалась этими подарками, ее приято волновали шуршащие целлофановые сюрпризы. Мать убеждала всех, что близкие пациентов заражаются неизлечимой болезнью благодарности. Ломая, головы, каким образом порадовать дорогого им доктора, граждане с набитыми карманами впервые, по ее словам, приобщаются к эстетическим впечатлениям — бегают по художественным салонам, ювелирным магазинам. Доктор Наримантас имел насчет мании делать подарки другое мнение, однако, когда я тянулся дрожащей лапой к запачканному клубничным соком конверту, чудились мне не его стиснутые челюсти. Казалось, неслышно, на цыпочках подкрадывается Казюкенене и следит за каждым моим движением, напряженно и злобно следит, заранее убежденная, что я, поддавшись искушению, схвачу наживку. Схвачу, а она прожжет мне кисть своим не признающим милосердия взглядом, чтобы на всю жизнь запомнил! Я чувствовал, этот конверт — открытая рана, и лапать его посторонним грязным рукам воспрещено. Ох, и осел же я! Какого черта жеманился, топчась возле чужих тайн? Ладно, гляну только и суну назад, а потом обо всем доложу отцу, не мне взятка — ему.
Читать дальше
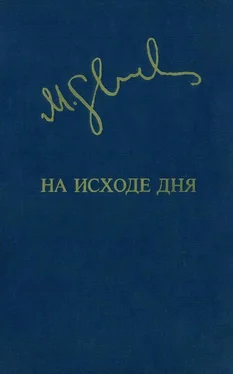
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)