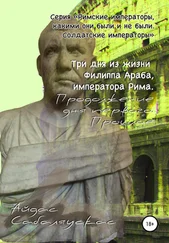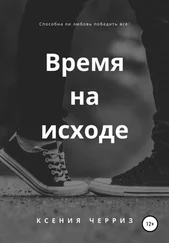Угадав затруднительное положение Наримантаса, подошел Рекус, произнес по-латыни какую-то банальность доктор Кальтянис, незаметно втершийся в палату… Отними у нас, врачей, нашу затасканную латынь, мы бы чувствовали себя голыми… Наримантас в ответ обронил не менее банальную фразу и снова углубился в свои мысли о больном, только о больном — о старых и новых признаках болезни, стершихся, порой отрицающих друг друга… А взгляд его, отсутствующий и сосредоточенный, скорее даже не взгляд неощутимые толчки подсознания вели Наримантаса к чему-то сокровенному, чуть ли не запретному, что ни в коем случае не должно было его интересовать, а вот ведь интересовало, к каждой черточке, возвещавшей о жизни, столь далекой от жизни его, Наримантаса, и, однако, влиявшей на нее, как смена лунных фаз на морские приливы и отливы. Был ли ты счастлив, столь высоко, до головокружительных вершин взлетев? Нет, не на людях, гордясь делами и достигнутым, а проснувшись среди ночи, один на один с не признающей никаких заслуг темнотой? В этом пронзительном, каком-то нескромном вглядывании в больного было нечто унизительное, несовместимое с призванием и профессией Наримантаса, но там же, в подсознании, другой голос оправдывал это пристальное наблюдение, ведь, взваливая на него сей тяжкий груз, Казюкенас не спросил, сможет ли он нести его. Всучили дерево, выдранное с корнями, с налипшими на них комьями земли, с жучками и червячками под корой — неси! Кто он, этот Казюкенас? Разве я не имею права спрашивать?
— Наш больной плохо дышит носом, — констатирует Рекус.
— Искривлена носовая перегородка, — соглашается, думая о своем, Наримантас. Кальтянис, чьи гибкие, как вьюны, пальцы обшаривают каждого пациента, замечая любой прыщик, горячо вмешивается в разговор:
— Заметили? На ногтях грибок.
— Грибок нынче не редкость. — Рекус наклонился поправить одеяло, сбитое в сторону. Обнажилась ступня с желтыми ногтями, на пальцах и пятке старые мозоли. И грибок и мозоли, будто у студента, вынужденного таскать тесные сапоги, — все это как-то примиряло с больным, смягчало недоверие, но он не желал оставаться только больным, был как бы медиумом, способным рассказать о том, чего и сам не ведает. Наримантас снова уставился в лицо Казюкенаса, бледное, утомленное болью и все-таки довольно красивое лицо. Природные краски, изгнанные болезнью, сошли со лба и щек, седеющие волосы приобрели за несколько суток после операции голубоватый оттенок и прямыми тонкими прядями раскинулись по подушке, словно свидетельствуя о существенной перемене, происшедшей в организме. Подергивалось веко, скрывавшее стеклянный глаз, только он никак не желал утихомириться. Изменился ли Казюкенас? Говорят, окружал себя подхалимами… Один Купронис чего стоит! Наримантас потерял жилку пульса. Господи, какой мусор лезет в голову… Непрестанно вытирая после операции этот лоб, смачивая водой запекшиеся губы, он нераздельно сросся с больным с его учащенным, куда-то спешащим дыханием, стонами и вздохами, проник в него, словно физиологический раствор в вену. Сейчас брусок лба белел отчужденно, почти зловеще, не потому ли чудилось Наримантасу, что он не знает ничего определенного и боится мгновения, когда все прояснится. Однако неопределенность не являлась главной или единственной причиной, почему он так жадно всматривался в лицо больного, и это раздражало его, как будто вместо старательного и уважительного Рекуса в палате торчит Ригас, язвительно ухмыляется и цедит, как только он один умеет: «Значит, спасаем человечество, отец?» Ни один врач — он свято верил в это! — ни один врач не вправе задавать себе вопрос, кого он спасает, но уже который раз давился он этим вопросом, чуть не вслух задавая его себе, и не чувствовал себя негодяем. Между тем, расталкивая все остальные мысли, подползала тяжелая и бесстрастная: какое уж там «спасаем», так… на день-другой отодвигаем конец, одинаково для всех неотвратимый. Он мотнул головой, пытаясь прогнать эту мысль. Неодолимая сила влекла его туда, куда он обычно избегал даже заглядывать, влекла и посмеивалась над его, по мнению сына, старомодными представлениями… А тут еще этот незваный-непрошеный Кальтянис вертится. Пристал как банный лист, хочет отыскать у больного какую-нибудь мелочишку, к которой можно прицепиться и тем привлечь всеобщее внимание. Разве это недостаточное предостережение тебе? Возьми себя в руки, пока не поздно!
Почуяв нарастающие неприязнь и напряженность, Кальтянис заторопился — «Приветик! Бегу!» — и выкатился из палаты.
Читать дальше
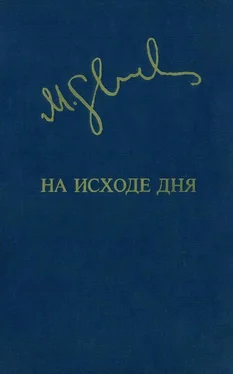
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)