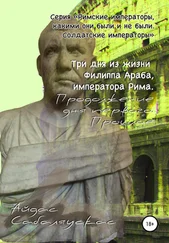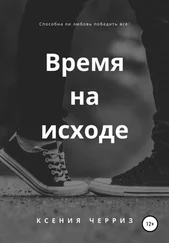— На перевязку? Сами видите, что я… — В ее голосе вдруг слышатся слезы, слой пудры едва прикрывает предательские полоски на щеках. — Ничего, там Алдона…
— Не везет!
— Бедный мальчик! — Она вновь неуверенно улыбается, придерживая ладонью грудь — как бы не вырвался стон. Пахнет от нее дорогими духами, как от Сальве или Зубовайте. — Ну да ладно, перевяжу! Пошли.
— С меня бутылка!
— Не люблю уличного жаргона.
— Премного благодарен, мадам, ваш покорный слуга!
Веки накрашены грубо, неумело — торопилась обезобразить себя, прежде чем капитулировать? Она поворачивается и быстро направляется обратно. Помявшись у центрального входа, спускается, постукивая каблучками, по боковому проходу во двор, где двери приемного покоя. Около них водитель «скорой» неторопливо стирает тряпкой кровь с сиденья. В прохожей молоденький звонкоголосый врач что-то кричит в телефонную трубку, сонно слоняются сестры. Когда мы входим, они оживляются и как бы ощетиниваются. Подождете, и так приткнуться негде! И Нямуните так чужаков встречала? Чья-то рука смахивает ее сумочку, повешенную на спинку стула, нагибаюсь, подхватываю и вешаю обратно. Нямуните отбирает — ведь я пациент! — и прижимает к себе локтем. Легонький костюмчик трепещет на ее груди, в вырезе видна ложбинка…
— Чистый бинт, Рамошкене! — В голосе повелительные нотки, но Нямуните уже не полноправная участница творимого здесь действа. Сестра, к которой она обратилась, не подает, а перекидывает ей бинт. Ленивый’ жест как бы подчеркивает пренебрежение — так отделываются от посторонних. Мне непонятно поведение Нямуните, точно на всеобщее обозрение себя выставляет, но уже не позавчерашняя добросовестная медсестра, а просто женщина с больной совестью. — Заживает хорошо. Вовремя спохватились! — говорит громко, будто наплевать ей на неприязненное молчание сестер приемного покоя. — Когда Лида дежурит?
— График на стене, — цедит Рамошкене, вороша какие-то бумажки. — Что, записать этого?
Нямуните, забыв уже про Лиду, бросает:
— Да нет! Он сын доктора Наримантаса. Всего хорошего!
— Будь здорова! — Рамошкене даже не привстала со стула, ее нескрываемая враждебность словно толкает Нямуните к двери.
— А палец в порядке, — уже во дворе успокаивает она меня, кивая шоферу; вода в ведре покраснела, как вино. — Хорошо, что не голову поранили.
— Ха! Что я, головой болты откручиваю?
Вместо ответа она смеется, но смех тревожен, нервен — сейчас оставит меня одного здесь, где тряпкой стирают с сапог кровь, как грязь, ничуть не удивляясь этому…
— Не поминайте лихом, ладно? — У самых глаз дразнящий вырез ее кофточки и пряный запах духов. Приблизилась, чтобы удалиться навсегда. Уверен, навсегда!
— Узнаю божественный аромат «Коти»! — Надеюсь дерзостью задержать Нямуните.
— Муж привез, — просто, как доброму знакомому, хвастает она.
— Коммерсант? Дипломат? Моряк?
— Корабельный штурман.
— Ого-го! Отец не устроил бурной овации, когда узнал?
— Наоборот. — Она не рассердилась, даже оживилась, заговорив о себе и об отце. — У него один камень с души свалился.
— Второй камень — я?
— Если потребуется, обратитесь к Алдоне. — Не отвечая на вопрос, она носком туфли проводит по асфальту, как будто вычерчивая пусть не очень важное, но необходимое по отношению ко мне обязательство — Уходите, да?
— Вопрос нескромный, но отвечу. Освобождаю дорогу. Иначе не могу.
— Я тоже! — брякнул нахально, как единомышленнице. Она глянула удивленно, но усталость взяла верх, и вопроса не последовало.
— Будьте мужчиной, Риголетто.
— С вашего разрешения — Ригас.
— Все, что касается доктора Наримантаса, дорого мне. Правда, теперь я свободна.
— Ха! И не можете решить, как воспользоваться свободой? — Нямуните покосилась, будто я вовсе не я, а кто-то другой, может, сам доктор Наримантас. — Не сомневаюсь, курс проложит штурман?
— Почему вы стараетесь казаться хуже, чем есть? Чем могли бы быть? — поправилась она.
Порывшись в сумочке, вынула темные очки. Чувствовалось, что не уверена в себе, вот-вот сбежит Говорила со мной, будто выполняя чей-то приказ.
— А вы, вы, мадам?
Медленно отвернулась, стекла очков блеснули. Даст пощечину? Ноздри вздрогнули, втянув запах больницы, поправила очки, огромные, черные, скорее всего из какой-нибудь экзотической страны, они очень шли к ее прямому носику. В стекле таяло бессилие понять то, что сумело подавить силу ее чувств. Выстраданная ясность была не совсем понятной, она потрясала невозможностью вернуть утерянное. Очки уставились прямо на меня, и я увидел, как гаснущими точечками исчезает в них роднившее нас чувство. Не целиком исчезло, но вызывало уже не расположение к ней, а злое недоумение: разнял на части интересную игрушку и увидел внутри проволочки да паклю… Грациозно кивнув, Нямуните удалилась, мелькая стройными икрами.
Читать дальше
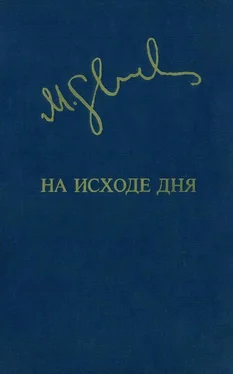
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)