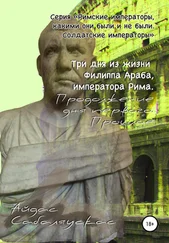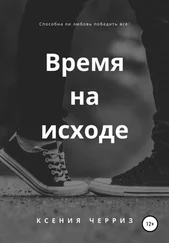Перекусили в буфетике, потом нырнули в кино, затем в парк, в будни тут почти никого нет. Влада таяла от счастья, что мы вместе — пусть ненадолго, но вместе! — а я грыз себя за то, что теряю дорогое время, которое — чувствовал — вновь течет между пальцами.
— Ты собиралась к отцу?
— А! Могу и не ходить. Бросил нас маленькими, как котят.
— Не любишь его?
— Я только тебя люблю, Ригу тис! Так мечтала встретить! И вот повезло мне.
Мы лежали у кустов на берегу журчащей засоренной речки. Забредя по колени в воду, торчали у берега не теряющие надежды удильщики, изредка в воздухе лезвием ножа мелькала пропахшая нефтью рыбка.
— Вот что, Владочка, — не вытерпел, не хотел быть еще хуже, чем был, — если ты меня хоть немножко, как ты говоришь… — Слово «любишь», давясь, проглотил. — Завтра же отправляйся в клинику… Сделают там тебе чистку и…
— Чистку?
— Слушай, ты на самом деле наивная или притворяешься? В наше время наивных мало. Не операцию делают — чистку. И все.
— Ригас, миленький, — Влада подкатилась поближе, — не говори так! Умоляю.
— Да не бойся! Больно не будет. У подружек спроси.
— Нет, нет, нет! — повторяла, зажмурившись, уткнувшись лбом в мое плечо.
— Что — нет? Девчонки не делают или ты не хочешь?
— Я, Ригутис, я!
Приподнялась, не опираясь на руки. Лицо от напряжения покраснело, сквозь его пухлую округлость пробились и пышно расцвели признаки беременности. Словами их не сотрешь!
— Дурочка! — Я приобнял ее и снова осторожно оттолкнул, не доверяя ее телу, точно набито оно осколками стекла. — Что было бы, если бы все боялись, как ты? — Чувствовал, что не физический страх заставляет ее избегать аборта, потому старался привести более серьезные аргументы. — Если бы все… мир наш, как туго набитая колбаса, лопнул бы! И моргнуть бы не успели! Знаешь, сколько ребятишек только в этом году закричит? Семьдесят миллионов! Где на них жратвы набраться! Скоро подчистую земное чрево выскребем, потом океанское дно… Под конец собственными экскрементами кормиться будем…
— Пожалуйста, не говори так! Сам не знаешь, каким бы ты мог быть хорошим, — вырвалось у нее жалобно, как у девочки, которую пугают страшной сказкой. Я старался вытащить у нее из-под лопаток горячую ладонь — прижала всем своим весом, стосковавшись по успокаивающей близости. — Не сердись, Ригас. Может, глупость скажу… Не рассердишься? Человек ведь не дурак безмозглый и не животное, так? А чем только не стращает себя, другой раз прочтешь — волосы дыбом становятся. Пищи не будет, энергии не будет, воды и той не будет! А ведь живут, дома строят, даже театры… И детишек растят… Ты не сердишься, Ригутис?
Разве это Влада, безмолвная, внимающая моему красноречию? Она и не она, какая-то другая девушка, поднабравшаяся ума-разума в путешествии, в котором я ее не сопровождал. А если и не ездила никуда, то успела взобраться этажом выше, оглядеться вокруг, кое-что понять. Что запоет такая спустя час, завтра? За горло схватит, позабыв про нежности… Подо мной дрогнула земля. Не только верхний ворохнувшийся, живой пласт узрел я, но и разверзшуюся, готовую поглотить бездну.
— Трусиха ты, обыкновенная трусиха! — Склонился над ней, загораживая небо, отражавшееся в ее глазах. — Больницы испугалась! Темнота! А темнота, запомни, никому еще не помогала.
— Да не боюсь я, Ригас. Если б и захотела, как ты советуешь, — поздно. Третий месяц. — Влада улыбнулась, будто еще одну радостную новость сообщила. — Семьдесят пятый день.
— Ха!
— В консультации сказали…
— Ха-ха! Сам господь бог и тот так точно не подсчитал бы! — Я сморщился, как отец, когда его пациент сам себе ставит диагноз.
— Врачиха сказала, два месяца. А дни я сама пересчитала. — Влада шевелила губами и загибала пальцы, ей нравилось считать дни, которые безобразили ее тело и путали мысли.
— Очухайся, растяпа! — принялся я, правда, не очень грубо трясти ее за плечи, надеясь стряхнуть с губ идиотскую улыбку слепой покорности судьбе. Влада мотала головой из стороны в сторону, непостижимая, охраняемая сомнительным талисманом — «ребеночком».
— Ты не волнуйся, Ригас, — произнесла она наконец, как бы пробудившись. — Не беспокойся! — Ее тревожило лишь настроение Ригутиса, а не его изуродованное будущее. — Договоримся так, милый: я тебя ни в чем не виню. Сама отстрадаю. Ребеночек — мой.
Мне бы от радости по лугу кататься, травку щипать — никаких упреков, счетов, требований, слезинка и та не скатилась… Ласково, но решительно отстраняли меня от «ребеночка» — благодарю вас, боги, всю жизнь фимиам курить вам буду! — но перестанет ли от этого «ребеночек» рушить мое бытие? Первый крик младенца — начало похоронного марша?
Читать дальше
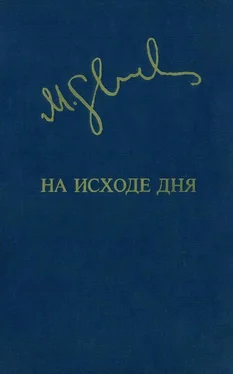
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)