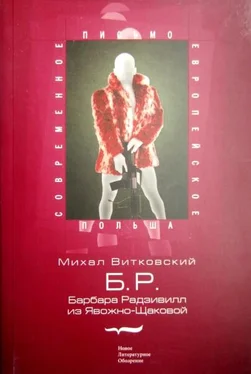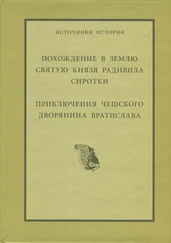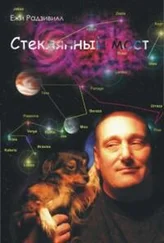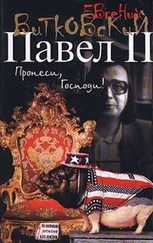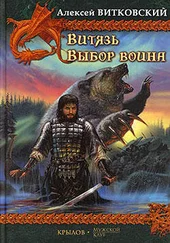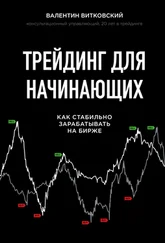К посылке был приложен листок, наклонным с завитушками почерком исписанный, полный дурдом. А самое смешное, что ты, Фелек, выхватил это письмо и, встав на табурет, начал читать его, как ученик у доски:
Моя Антонина!
После нескольких весенних дней у нас снова холода, сильно дует. Ты ведь знаешь, как я плохо переношу ветер и вообще болею по причине ауры. На лечение надо бы поехать в Киссинген, но времена нынче тяжелые, да и возможности нет. Все кашляют. Представь себе, дорогая, у молодой Ланцкоронской снова боль в плече, а Стась Понимирский упал с лошади и зашиб голову так, что ночью старика Гольдмана позвали наложить повязку. Возвращался, баламут, из соседнего поместья и расшибся, вот так. Молодой еще, как жеребенок норовистый, к счастью, в сентябре учиться идет. Буня выхаживала его самоотверженно целую ночь, так что сама получила ото всего этого зубную ангину и (неразборчиво). Вот именно! Навестила нас Пуця Меллер. Как обыкновенно, привезла из Лондона новые моды, но главное — велюровую шляпу бордо с вишневой ленточкой и осеннее пальто длины у нас пока неизвестной. Тетя Миля очень больна, и уже относительно имения первые попытки предпринимает ее чудесный известный тебе племянник. Все на кокоток потом в Париже, баламут, просадит. Однако кузен наш, Алек Белецкий, как еще один наследник, уже некоторые старания приложил и, возможно, солидное имение совершенно от разорения убережет. Жуиры и бонвиваны — позор и стыд нашей семьи, вот так. Как же мне отблагодарить тебя за прекрасные рисунки на салфетках для китайской гостиной. Папа в Вене по общественным делам. Горничную Калужную я недавно выставила, ибо к моим письмам intime и prive она интерес проявила, хоть и по-французски писаны, опасаюсь, что плебс последнее время и в языке французском разобраться сумеет, и за деньги дела мои на люди вынести способен. От одной лишь мысли об этом на меня накатывает приступ мигрени, а посему кончаю. Всем сердцем преданная тебе твоя подруга
Аниеля Пуцятыцкая
Я со смеху покатывался, когда Фелек читал это по складам в ломбарде. Сам в трениках, нос сломан! Хамство да и только, точно те русские, что во время освобождения к добру нашему подбирались. Тут ведь такая роскошь! Я надел жемчуга и изображал из себя потомка, озабоченного судьбой теткиного наследства. Хам! Кричу я Фелеку. Хам, куда ты свои лапы, которыми в носу ковыряешь, к моим родовым реликвиям, к письмам… Лучше бы коней пошел посмотреть, кормлены ли, чищены! А что ты, Саша, окажешься хамом (что Фелек хам, это известно) и на фото тетки на фоне Ниагары скажешь «во телка», я даже не предполагал. А лупить друг друга гипсом по голове, размахивать им — так это ваши обычные проказы. Ты бы у меня мог в имении служить, Саша. Я бы теперь туда поехал, на эту Украину, в наши родовые довоенные владения, в которых я пусть никогда и не был, но дальние родственники… Я бы поехал гоголем, и сразу бы меня окружили такие Сашки белобрысые да дети чумазые, в одной рубашонке, в грязи, да бабы старые с ватой в ушах. А я бы их всех благословил и мягким голосом сказал:
— Не бойтесь, люди добрые, это я — ваш господин, ваш пан приехал. А какая-нибудь очень старая старуха, почти слепая, которая меня не узнала бы, но что-то ей привиделось и она крикнула бы: «А ну, народ, шапки долой, пан наш вернулся!» А они бы шапки поснимали, потому что пан их приехал… А еще одна, с бельмом на глазу, сидела бы перед хатой на лавочке, совсем просиженной, потому что всю жизнь на ней сидят. Такая же злая, как старуха из сказки о золотой рыбке. У той было разбитое корыто, а она захотела дворец от золотой рыбки. Шел бы я по этой деревне, по весенним лужам, а старуха вытянула бы ко мне лапищу свою громадную, как сковородка, да посеревшую от выкапывания картошки, и засверкала бы этим своим бельмом: «Целуй руку! Теперь ты!»
Их там несколько жило, Саша. В усадьбе. (Вы там наконец успокоитесь или нет?!) Сразу после войны они вернулись в свою усадьбу, разоренную, с дырявой крышей. На своих двоих доковыляли по дороге, обсаженной плакучими ивами, сами все в слезах (Ты в глаз попадешь ему этим гипсом!) Как только ивы эти увидели — сразу в слезы, ибо изрублены деревья на дрова, сожжены в печках. А на обломанной ветке висит пригоревший котелок. В котором солдаты себе сало топили, точно цыгане! О Боже, Аниелька, ты видишь это? Точно цыгане! Но тише, истинное благородство обязывает даже в самых плохих условиях сохранять достоинство!
На том месте, где до войны у них был большой конный завод чистокровных арабских скакунов, копошатся в грязи ободранные деревенские ребятишки. Здесь, где были и мраморные поилки, и позолоченная упряжь, и экипажи, и все-все! И все это было разграблено в их отсутствие, потому что через эту усадьбу прошли сначала немцы, а потом русские. Да, Сашенька, не хочу огорчать тебя, но были там и украинцы. Вошли и вышли, обесчестили, как невинную девушку. Вошли вовнутрь, отлили в фарфоровую вазу, в которой суп к столу подавали, и уехали, вот и все, на что мужик способен. Чего не покрали, не порушили солдаты, то от местной голытьбы погибло. Как будто наяву вижу тебя, Саша, во время этой экспроприации! Налететь, посеять опустошение, забрать добро и был таков! Очень подошел бы ты. Шустрый. Настоящий казак из тебя.
Читать дальше