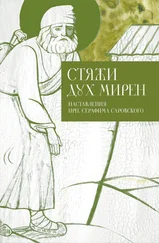А сначала, когда ничего из новых, послевоенных книг ещё не было, среди случайно уцелевших немногих попалась мне одна такая книжица. Небольшого формата, в каком присуще издавать сборники стихов, зеленоватого, скорей, салатового цвета, с коротким на переплёте названием:
ЛИРИКА
Скромная книжечка имела и автора. Имя было его не совсем, может быть, и обычным, но ни вопросов, ни недоумений не вызвало. Звали автора Михаил Голодный.
Я потом всё выспрашивал дядю Володю, как его, Голодного, воспринимать… То есть мне захотелось узнать, в каком именно восторге от Михаила Голодного были довоенные его читатели (книжка ведь была довоенная). Но дядя Володя ощущений моих не подтвердил. Он сказал, что, конечно, Голодного знает, но читали они и других: Жарова, вот, например… Ещё упомянул какого-то Есенина.
Жаров мне ничего не сказал, Есенин тем более, а Голодный сказал. Через какое-то время я книжку его почти всю уже знал наизусть и, главное, читал наизусть и по книге другу своему Вовке Шканову. И Вовка, встречая меня во дворе, на лестнице или в сарае, всегда просил что-нибудь из этой зелёненькой книжечки почитать. Я читал.
… У дверей твоих хожу я,
У дверей твоих брожу я,
За окном ночная тишь…
Спишь ли ты? Или не спишь?
Спит он, спит он, город гулкий —
Мостовые, переулки,
Реки, темные мосты —
Всюду ты и ты, и ты …
Да, всё это было! Двери, окна и тишь ночная, и бродили мы по городу гулкому… Правда, реки, мосты — точнее, Москва-река, была не рядом, но всё равно туда устраивали экспедиции, чтобы в мутной весенней её воде вылавливать плывущие… Как бы это сказать? Вообще-то мы говорили: гондоны , а в виду имелись именно презервативы, они всегда там, покинутые, по течению плыли… Зачем их было вылавливать? А чтобы надувать! И потом — умеренно надутыми — смущать девчонок. Я не очень-то понимал существо такого развлечения, но чувствовал здесь запретную неприличность. Но вот когда явилось цивилизованное слово презерватив , то оно от своей цивилизованной точности сделалось ещё более неприлично-запретным, и, достигши определённой зрелости, мы в аптеке, отводя глаза в сторону, не столько стесняясь, а более — боясь оскорбить аптекаршу — обычно молодую, и в хрустящем халатике — ах! — говорили интимно :
— Два пакетика по четыре копейки!
Но Михаил Голодный писал же не об этом…
Братцы, я любил девчонку,
Пел ей песни, звал ребенком,
А она меня, смеясь,
Обманула двадцать раз!
А ведь мы же, как и он, тоже любили девчонок. И Вовка Шканов был в этом деле орёл. Он Зойку Молдованову саму любил! Я тоже, конечно, любил эту потрясающую Зойку, но был во втором составе. Мама её (отца, конечно же, не было) служила газировщицей. В летнее время она работала долго, иногда до двух ночи, и мы вместе с Вовкой, когда матери наши были на ночных дежурствах, провожали Зойку, идущую маму её встречать. Мама Зойкина работала неподалёку, всего-то за углом, на Садовой, где был продовольственный магазин, называемый всеми по старому ещё хозяину — «У Соловья». Мы подходили, мама Зойкина отсоединяла газированную свою тележку от газовых баллонов, предварительно угостив нас «с сиропом», а потом мы катили этот агрегат до соседнего с нами двора — Дом Шестнадцать, — а идти вот так с Зойкой, и даже при маме, было тревожное наслаждение.
Однако были у Михаила Голодного и другие стихи, вот именно, что тревожные. И тревожились мы с Вовкой Шкановым вместе:
Стонут скрипки, ходят пары
Не вперед и не назад,
Молча пляшут коммунары,
Семеро моих ребят …
Это была затаённая до поры до времени облава . Но не это тревожило нас, тревожило вот что:
Хлопец, хлопец, я сырая,
Отогрей меня, прижми,
У дверей держись к сараю,
Ляжем в сено за дверьми …
Ну, сарай, это было понятно. Но это вот «ляжем» — с ума сводило! Это ж не просто девчонку любить, это что-то иное, из запретного взрослого мира. А ещё там была –
Верка Вольная, коммунальная жёнка, —
Так звал меня командир полка.
Я в ответ хохотала звонко,
Упираясь руками в бока.
Я не даром на Украине
В семье кузнеца родилась.
Кто полюбит меня, не кинет.
Я бросала. И много раз.
Как мы это любили! Как всё это тревожило маленькие наши души! Я ведь Зойку любил, и Алку любил из нашего двора, но больше всех любил Вовку Шканова, и ему был готов отдать и Зойку, и Алку. Потому что Вовка был самый достойный: он прыгал дальше всех и выше всех, и быстрее всех бегал.
Читать дальше