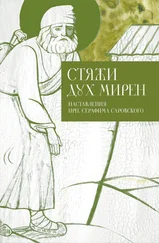— Господи, Царица небесная… Господи, Царица небесная…
Наверное, весь мир пропадал, на куски распадался при нескончаемом, нестерпимом вое и громе. Потом этот жуткий вой со свистом, нарастая, пошёл, стал рушиться прямо на нас и — дом задрожал, затрясся, и треснул потолок, и лопнула, оглушая, бомба, но мы отчего-то оставались живы и целы. Только потолок стал распадаться, и бабе Шуре здоровенный кусок потолка ударил в спину, когда она согнулась.
Бомба, она ведь не летит прямо вниз, а идёт по косой, наклонно… Она пролетела над самой нашей крышей, успела пересечь узкую улицу и взорвалась напротив, в заросшем саду, где через двадцать лет, когда воронка заросла, воздвигли шашлычную, потом вознеслось здание биржи из армянского розового туфа, а теперь стоит стильный особнячок с игривой вывеской «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ».
Баба Шура слегла и больше не встала.
Сколько это длилось, не знаю. Чего я тогда не понимал, так это времени. Я понимал настоящее. То, что сейчас. И думал чуть-чуть о будущем, в том смысле, что нельзя же сегодня всё съесть, завтра может быть хуже.
Я примкнул к стайке пацанят. Мы шныряли по Северной стороне, ловили военных и флотских.
— Дяденька…
Дальше текста не помню.
Лучше было подбегать к морякам, они были богаче, давали и деньги. Раза два попал я на подводников, они дали шоколад. Вкуса не помню. Вообще не помню, чтобы я его ел. Может быть, менял на хлеб или деньги?
И всё же вернее, надёжней и во всех отношениях лучше было ходить в расположение батальона, роты или что там ещё — в саду или в доме. Здесь хорошо встречали, шутили, гладили по голове, кормили и давали с собой. Хорошо, отчётливо помню котловой этот запах, жёлтую кашу с чем-то розовым, сладким. Я ел её громадной деревянной ложкой, на дне ложки оставалось розовое с крупинками каши, а я не дотягивался языком до дна.
Потом я бегом бежал, чтобы не остыло, с котелком, и кормил из ложки бабу Шуру. Она всё время лежала на спине и ничего не говорила. Да мне и некогда было: покормил и бегом назад — вернуть котелок и опять на охоту.
А что это было? Весна? Лето? Ранняя осень?
Было тепло, и деревья полны были листьями. И баба Шура вдруг почему-то сказала, чтобы я всегда ночевал дома, если останусь один. Был, как знаю теперь, сорок третий.
Я проснулся рано утром и подошёл к бабе Шуре. Она была мёртвая, отчего-то я это понял. Так же на спине она лежала, на высокой подушке, голова высоко, и лицо устремилось ввысь… Было видно, что её уже нет.
Всё-таки кто-то из соседок, наверное, заглядывал к нам, потому что я никуда не бегал, никого не звал, а в доме появились старушки, меня услали, но я был спокоен.
Я прошёл мимо колодца, под молодым орехом был пенёк от спиленного старого, я сел и подумал. И вот я понял, что бабы Шуры моей больше нет, она, бедная, умерла, жить не будет, и её, наверное, похоронят. Умерла она, умерла…
Я не думал о том, что остался один, мне не было страшно: что ж, что один, одному и прокормиться легче. Я не думал об этом.
Из дверей вышла старушка, посмотрела на меня и сказала:
— Смотри, плачет. Такой махонький, а уже понимает. Жалеет бабушку.
Была подвода. Был ли гроб или не был, не помню. Было кладбище. И где та могила, теперь уже никто не знает, никого не осталось.
А я тогда остался не совсем один. Та старушка, что увидала, как я плачу на ореховом пеньке, сказала мне, когда мы возвращались с кладбища:
— Ты будь всегда теперь хороший. Бабушка твоя на небе, смотрит на тебя, всё видит. Ты будь хороший…
А я подумал, что хорошим быть совсем нетрудно. Просто не делать ничего плохого, чего мне никогда и не хотелось.
Брату моему Борису посвящаю эту главу. Он много помог мне в её написании.
Борис родил Ирину, Владимира и Наталью.
Нельзя сказать, что род Кабановых скудел от Семёна-артиллериста к Борису. Скорее даже, напротив, фамилия наша избежала преобладающей склонности российского дворянства к неспешному одичанию. Склонность эту с грустью заметил Пушкин («Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым…»), а после едко выразил Некрасов:
…Скажу я вам не хвастая,
Живу почти безвыездно
В деревне сорок лет,
А от ржаного колоса
Не отличу ячменного,
А мне поют: «Трудись!».
Тут как не вспомнить князя Голицына, известного винодела, того, что развёл в Крыму виноградники и открыл в столице винную торговлю, а в ответ на упрёки, что де, торгуя, позорит он аристократию, отвечал:
Читать дальше