А Даша об эту музыку при первых же ее тактах как об нечто физически ощутимое ткнулась, ударилась! Всем существом — грудью, лицом, животом… Такая невесомая, но столь рельефная, хотя и болезненно робкая, словно лишенная кожи, музыка. И в первые минуты румянец, заливший Дашино лицо, походил на ожог, полученный от соприкосновения с этой музыкой. Но мудрая, немеркнущая радость жизни, которую несла в себе Дашина душа, от этого непредвиденного столкновения не померкла, и тихая, милосердная улыбка ее от мощного удара не исказилась, продолжая мерцать и высвечиваться сквозь ожог румянца.
Это была не просто незнакомая музыка, но чужая, чуждая ее чистому сердцу. Музыка, не столько волновавшая, сколько терзавшая. Терзавшая последовательно, рационально, умело, продуманно. Музыка ума. Притом мужского ума. Но далеко не разума. Музыка напрягшегося псевдоинтеллекта, окрашенная умением и усыпанная осколками изведенного, изуродованного бытом, расчетом, а затем и разгулом богемным таланта, дара бесценного. Дьявольская сила, излучавшаяся от сплетавшихся в экстазе звуков, окутывала, пеленала, сдавливала Дашин мозг куда беспощаднее расхлябанных песнюшек геолога…
— Что это?! — выдохнула она в отчаянии, когда Аполлон прекратил истязание и резким движением головы победоносно откинул со лба черное облако волос. — Это, это… не ваша, не твоя это музыка, Аполлон! Это чужое…
В это мгновение Даша поклялась себе — любыми жертвами, любыми усилиями — спасти Аполлона, его музыкальный дар.
— Ошибаешься, — возразил ей ничуть не смутившийся Рыбкин. — Чужое было — до. Во времена Барнаульского. А это мое. Кровное, нутряное. Это — от бога. Молиться этому идолу буду. Лоб расшибу, но заставлю, заставлю говорить о себе! А Барнаульского — под откос. Под насыпь, в ров некошеный! — засмеялся, захохотал, сверкая белыми, здоровыми зубами.
— Барнаульского? — переспросил низенький лобастый Гера Тминный. — Это не того ли Барнаульского, что песенки сочиняет? «Стара Адель моя, стара»? Или спортивная: «Под сводами бань в тазы барабань»?!
Аполлон пристально и достаточно долго посмотрел на обутого в личные, приносные тапочки невзрачного поэта и вдруг, оттолкнувшись от пианино, лихо приблизился к Тминному, затем, согнувшись чуть ли не пополам, церемонно поцеловал стихотворца в давно нечесанную голову.
— Барнаульский не сочиняет, а сочинял. До сего момента. Больше он этого делать не станет. Ша, Алеша!
— А что?! — вспыхнул, оправдываясь, Тминный, кстати ничуть не испугавшийся благородного наскока бархатного композитора. — А мне нравится! На фоне остальной халтуры Барнаульский — будь здоров! Его поют. Сам слышал… Пьяные люди в электричке.
— Все равно — под откос! В тираж его, иждивенца! — хорохорился Аполлон, притворно вздрагивая от гнева.
А в итоге выступление Аполлона и вообще его появление в таборе встречено было одобрительно, хотя и с некоторой долей растерянности.
Афанасий Кузьмич, искренне озабоченный Дашиным невезеньем в отыскании себе мужа, предыдущую ночь почти не спал, и, когда Аполлон Рыбкин на рояле заиграл, притом что-то заковыристое, серьезное шибко, чуть ли не симфонию какую-то, фонарщик не удержался и пару минут вздремнул прямо на стуле, раскачиваясь взад-вперед, как китайский болванчик. Очнувшись, Кузьмич решил взбодрить себя рюмкой водки, которую и принял за спинами друзей, тщательно скрывая от них эту свою одиночную акцию. А затем, когда многие с похвалой обратились к его музыкальному зятю, он и сам попытался что-то там такое произнести, какую-то свою шероховатую и потому упирающуюся, тугую мысль из головы извлечь.
— Не знаю, кто такой Барнаульский… С чем его люди едят. Зато вас, Аполлон Анатольич, с превеликим удовольствием! Потому как — мастер! Золотые руки. А мастеру в любой точке земного шара почет и уважение. Хоть на севере, хоть на юге. Я, может статься, от подобной музыки малость дурею. В сон меня, в потерю сознания кидает. Млявость, извиняюсь, одолевает, потому как с непривычки. И еще — тоска, если откровенно. Бодрости, боевитости маловасто… Так душеньку и выскребает! Однако — уважаю. Умелец вы, Аполлон Анатольич, шик, блеск! Это ежели снаружи глянуть. Бархат! А вот как бы эт-то поглубже копнуть, туда, за энти отвороты заглянуть… Сами понимаете — дочь она мне. И вот — теряю. Под такую, значит, музыку… Из пеленок собственноручно вынимал. Приросла… Когда и поговорить, коли не сейчас? Потом-то, может, и не удастся. Потом-то вы на меня, может, и кричать будете, ногами топать. А сейчас скушаете. Мне главное — унюхать, кто вы на самом деле есть, а не в бархате. Человек вы или… музыкальный инструмент всего лишь?
Читать дальше
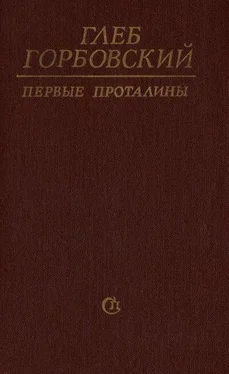

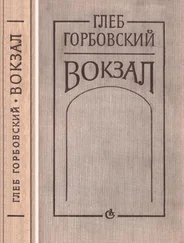




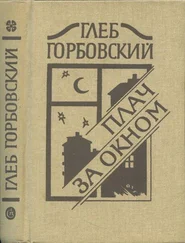



![Глеб Кондратюк - Первые изменения [калибрятина]](/books/388921/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-kalibryatina-thumb.webp)
![Глеб Кондратюк - Первые изменения [СИ]](/books/435087/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-si-thumb.webp)