Геолог рыбину дрожащими руками преподнес.
— А это… балык. Сам поймал, сам и закоптил, — смущаясь, промямлил, протягивая Даше обыкновенного леща. Мучимый жаждой и угрызениями совести, терпеливо дожидался он начала застолья, невесело поскрипывая зубами, словно готовился перекусить незримую ленточку, отгораживающую от него торжество.
Художник Потемкин откуда-то из-под плащей, с крючка вешалки снял тщательно упакованную в бумагу, перевязанную бечевой квадратную картинку 50x50 сантиметров. Когда ее развернули, многие ахнули: такого поразительного сходства с моделью никто из присутствующих увидеть просто не ожидал. Теперь ведь как: художники чаще свои фантазии рисуют, свои эпохальные замыслы воплощают, даже когда вы им позируете безвозмездно. Глянешь из-за плеча маэстро на такое, с позволения сказать, воплощение, и расхочется тебе не только в замыслах чьих-то присутствовать, но просто жить. Вместо уха — унитаз, вместо глаз — амбразуры пулеметные, вместо носа — вообще безобразие форменное. А на картинке Потемкина — извините: Даша на этот раз сидела как живая! Да что живая! — больше, чем живая: вся ее несуетливая, необоротистая, восторженная натура, вся ее прозрачная, просторная душа, пронизанная участием к вам и наивностью, так и выливалась через край с полотна. И вот что еще восхищало в портрете: внешнее сходство лица, осанки, линий, вся необычайно правдивая пластика образа уравновешивалась таким же мощным и емким нутряным, то есть духовным свечением в работе художника. Даша предстала сидящей на гранитных ступенях какого-то пьедестала, скорей всего на ступенях возле Александрийского столпа. Сидела она, повернувшись спиной к зрителю, но лицо свое обратила назад — к людям, щедро делясь своей возвышающей улыбкой. Волосы ее были распущены по медно-зеленоватой накидке, под которой угадывались как бы крылья, а может, и просто острые лопатки… И вот что интересно: выпуклое это несоответствие под складками накидки ни в малейшей мере или степени не искажало, не уродовало изображаемую, но как раз и дополняло незримые в обыденности штрихи Дашиной сути.
— Господи! — воскликнула в панике Ксения Авксентьевна. — Да такую-то разве можно показывать? Да такую не то что замуж — на свет божий выпускать боязно. Обманут моментально. Измажут… — и тут старушка заплакала незаметно, потом закашлялась, как бы дымом табачным подавилась.
— Это что же, в мой огород камушек? Насчет «обманут»? — встрепенулся Аполлон, беря из рук Ксении Авксентьевны окурок «беломорины» и жадно затягипаясь. — Я, что ли, измажу? А ведь измажу, факт. Невольно. Унижу… Одним своим прикосновением — оскверню! Тут уж или пан или пропал. Выбирайте… Тут уж, кому достанется, тот и… осквернит. Только ведь не виноват. Не виноват? — поймал Аполлон Дашины руки, на колено по странной своей привычке опустился театрально, как в оперетте. Губами по руке елозит. — И оскверню! Нате вот! Потому как — мое! Скажи им, Дарьюшка, ведь мое? Не виноват я перед тобой?
Даша проворно и как-то величественно, без принуждения склонилась над Аполлоном, поцеловала его в лоб, не переставая улыбаться, и под этой ее улыбкой не только Аполлон Рыбкин, но и все остальные, как под дождиком оживляющим, облегченно вздохнули, друг друга за неловкость минутную простили и в гостиную к накрытому столу перешли. Когда двинулись, то впереди Ксения Авксентьевна с портретом в руках, как с иконой, проследовала. В последний момент, перед тем как за стол усесться, улыбнулась хитренько и жалобным, хотя и грубым, прокуренным голосом обратился к дочери:
— Пусть она у меня повисит… Ты ведь, поди, упорхнешь теперь. Вот мне и радость на время разлуки. Договорились?
Даша поспешно кивнула в знак согласия. А потом, когда вспомнила, что «упорхнуть-то» ей как бы и вовсе некуда, озаботилась и, не теряя доброго расположения духа, спросила только:
— Думаешь, упорхну? Миленькая, а скажи, куда именно? Аполлон-то мой — он ведь бездомный сейчас. Прежде-то он где обитал? В моих мечтах всего лишь. В снах-грезах. Иными словами, вот здесь! — постучала она по своей голове пальчиком. — Вдвоем-то разве уместимся тут?
— Ну и слава богу, если останетесь! А портрет-то я все-таки… Хотя бы на время к себе… Можно?
— Не горюй, Даша! — ударил в ладони Аполлон Рыбкин. — Я тебе такую грезу отгрохаю! На кооперативных началах… К тому же — дача у меня фамильная. На Карельском.
После того как растерзали румяного, сочного и весьма душистого гуся, после коллективного «умытия» в ванной сальных, бесстыдных рук, которыми рвали бывшую птицу, разгоряченные охлажденным шампанским, решили культурно передохнуть возле пианино, чтобы собраться затем у самовара под знаменитый Дашин пирог с яблоками и под прочие кулинарные соблазны.
Читать дальше
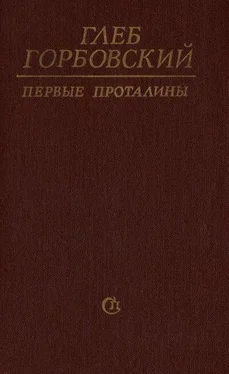

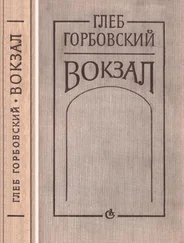




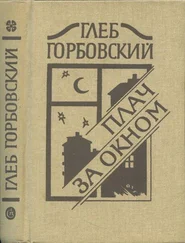



![Глеб Кондратюк - Первые изменения [калибрятина]](/books/388921/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-kalibryatina-thumb.webp)
![Глеб Кондратюк - Первые изменения [СИ]](/books/435087/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-si-thumb.webp)