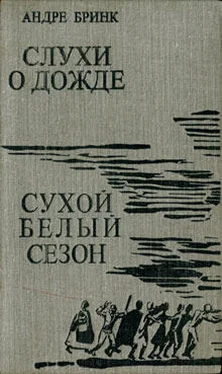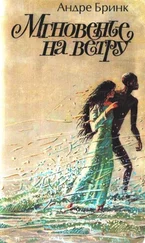Несколько строк в вечерней газете извещали о похоронах. Я собирался поехать, но так и не успел. В то утро мне пришлось присутствовать на ленче в честь какой-то заезжей знаменитости, дамы-писательницы. Я еще подумал, что под предлогом похорон смогу смыться в первую же удобную минуту. Но дама принадлежала к любительницам пирожных с кремом и лиловых шляпок и еще отличалась истовой страстью к описанию крови, слез соблазненных и покинутых матерей-одиночек — писаниям, собственно, и обеспечивающим наш журнал десятками тысяч надежных подписчиков. Понятно, почему я был не в лучшем расположении духа, когда выехал со стоянки и направился в Карлтон-Центр, где была назначена встреча. К тому же я еще и опаздывал на четверть часа. Погруженный в свои мысли, я не очень-то обращал внимание на все, что творилось за окнами автомобиля, пока у здания Верховного суда до меня не дошло, что здесь происходит что-то необычное. И это заставило меня притормозить и оглядеться по сторонам. Что такое, я не сразу и понял: тишина. Привычного шума в центре города не было, стояла тишина. И люди не торопились, а стояли в тишине. И уличного движения не было. Центр города, шумный, вечно торопящийся, замер. Точно невидимая всепростирающаяся рука нащупала и сдавила ему сердце мертвой хваткой. И казалось, слышался а тишине только ни на что другое не похожий глухой звук мерного биения сердец, слишком слабый, чтобы его могло уловить ухо. И он проникал через плоть и кровь, ощущался подобно подземным толчкам, но не тем, к которым мы привыкли в Йоханнесбурге с его бесчисленными шахтами и вечными взрывами породы.
А прошло какое-то время, и люди поняли, что тишина движется. Вниз по улице от вокзала медленно надвигался людской поток, несущий перед собой тишину, — хмурая, неудержимая стена черных лиц. Ни выкриков, ни вообще шума. И тишину только усугубляли люди в переднем ряду, они шли, подняв сжатые в кулак руки. Руки напоминали сучковатые корни деревьев, что несет с собой к берегу неторопливый океанский прибой.
И из улицы, где мы стояли, и из других улиц вдруг стала надвигаться, выплывая, толпа черных лиц, такая же немая, молчаливая, она двигалась к той, что была у здания Верховного суда, точно ее притягивало туда неведомым гигантским магнитом. Мы, белые, жались к суровым и прочным стенам и к колоннадам домов, единственно и обещавшим нам безопасность. Никто словом не обмолвился, не сделал ни единого жеста. И все было как в немом кино или на экране телевизора с выключенным звуком.
И только потом я вспомнил, что ведь на этот день было назначено слушание дела, касающегося одного из бесчисленных в последние месяцы актов террора, и что эта толпа шла из самого Соуэто, чтобы присутствовать при вынесении судебного приговора.
Но впрочем, они не дошли. Пока мы стояли, раздались полицейские сирены и со всех сторон стали надвигаться полицейские фургоны и бронетранспортеры. И их рев взорвал тишину и вывел нас из этого транса. В считанные мгновения на центр города накатила вдруг волна шума. Но я не стал дожидаться, пока она захлестнет меня, отпустил тормоз и двинулся прочь.
По крайней мере это дало мне возможность объясниться, почему я опоздал тогда в Карлтон-Центр. И я все еще надеялся, что похороны будут подходящим предлогом, чтобы так же вовремя ускользнуть от этой лиловой дамы. Но когда оно настало, время, я уже не хотел участвовать в этих похоронах, я просто не смог бы, и все тут.
В книжном магазине на Коммишнер-стрит я купил и подписал открытку с выражением соболезнования и бросил ее в почтовый ящик на Джиппи-стрит на обратном пути к машине. После этого я поехал прямо домой с твердым намерением — в редакции меня по крайней мере точно не ждали — тотчас засесть, теперь уже основательно, за бумаги Бена.
Помнится, я так и не получил от Сюзан обычного ответа с выражением благодарности по поводу моих соболезнований. Хотя да, конечно, я ведь не указал обратного адреса, а Сюзан могла не знать его. Может быть, так оно было даже и лучше для всех нас.
Кое-кто считал, будто Сюзан совсем не та женщина, что нужна Бену. Я не могу с ними согласиться. Ему нужен был человек, который подгонял бы его, не давал погрязнуть в рутине, определял бы ему цель и сообщал бы энергию и упорство в ее достижении. Не будь Сюзан, он, очень может быть, так и закончил бы свои дни в какой-нибудь забытой богом глуши, спокойно обучая истории или географии одно поколение школьников за другим, а в свободное время помогал бы набираться уму-разуму тем, кому недоступна школа. А получилось все-таки, что он работал в одной из лучших школ большого города, преподававших на африкаанс. Трудно сказать, был бы он вообще счастлив, окажись в иной обстановке или в других обстоятельствах. Да и кто вообще оценит, счастлив был человек или нет? В чем я уверен: уж кто-кто, а Сюзан умела и отвратить от бредовой идеи, и вдохновить на что-то поистине созидательное.
Читать дальше