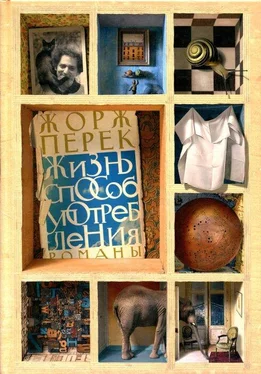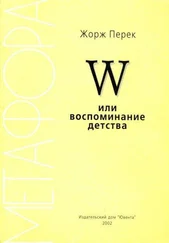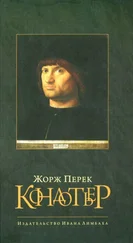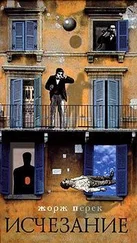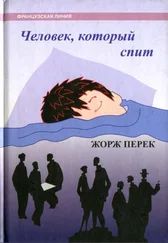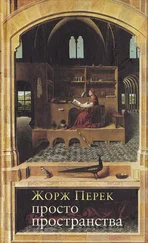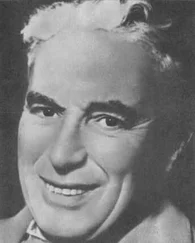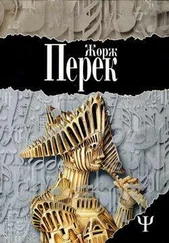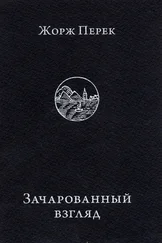Марсель Аппенццелл не привез ни предметов, ни документов, ни заметок, ничего, что могло бы служить подтверждением тому, что произошло за этот 71 месяц; он практически ничего не рассказывал, отговариваясь тем, что до первой конференции следовало сохранить всю полноту воспоминаний, впечатлений и выводов. Чтобы все упорядочить и изложить, он отвел себе шесть месяцев. Сначала он работал быстро, с удовольствием, почти с рвением. Но вскоре стал тянуть, задумываться, зачеркивать. Когда мать заходила к нему в комнату, чаще всего он сидел не за письменным столом, а на краю кровати; сидел выпрямившись, положив руки на колени, и невидящим взглядом следил за осой, которая кружила у окна, или же пристально смотрел, — будто желая найти какую-то потерянную нить, — на бежевое льняное полотенце с бахромой и двойной коричневой каймой, висящее на гвозде за дверью.
За несколько дней до своей первой конференции — тема «Анадаламы с Суматры. Предварительное знакомство» была уже объявлена в разных газетах и еженедельниках, хотя Аппенццелл все еще не представил в секретариат Института резюме в сорок строчек для публикации в «Социологическом ежегоднике», — молодой этнолог сжег все свои записи, сунул несколько вещей в чемодан и уехал, оставив матери лаконичную записку, в которой сообщал, что возвращается на Суматру и не чувствует себя вправе разглашать что бы то ни было относительно оранг-кубу.
В огне уцелела лишь тонкая тетрадь, частично заполненная преимущественно неразборчивыми заметками. Несколько студентов из Института этнологии взялись за их расшифровку и — благодаря редким письмам, отправленным в основном Малиновскому, давним сведениям с Суматры и последним свидетельствам тех, кому Аппенццелл изредка проговаривался и сообщал подробности своего приключения, — сумели воссоздать в общих чертах то, что с ним случилось, и набросать схематический портрет загадочных «Сыновей Глубины».
Пройдя несколько дней, Аппенццелл наконец нашел деревню кубу в десять хижин, которые стояли вокруг маленькой лужайки. Сначала деревня показалась ему безлюдной, потом он заметил под навесами лачуг нескольких стариков, которые лежали на циновках и за ним наблюдали. Он подошел к ним, поприветствовал их по малайскому обычаю — дотронувшись до их пальцев, а затем поднеся правую руку к сердцу, — и положил перед каждым, в дар, маленький пакетик с чаем или табаком. Но они ничего не ответили, не кивнули головой и не притронулись к подаркам.
Чуть позднее залаяли собаки, и деревня наполнилась мужчинами, женщинами и детьми. Мужчины были вооружены копьями, но даже не думали ему угрожать. Никто на него не смотрел и, кажется, даже не замечал его присутствия.
Аппенццелл провел несколько дней в деревне, но так и не сумел войти в контакт с неразговорчивыми жителями. Он совершенно бездарно исчерпал свой скудный запас чая и табака; ни один кубу — это касалось даже детей — так и не взял ни один из пакетов, которые в результате ежедневных грозовых дождей были подпорчены и негодны к использованию. Самое большее, что ему удалось, это осмотреть, как живут кубу, и начать записывать то, что он увидел.
Его главное наблюдение, кратко изложенное в письме к Малиновскому, подтверждало, что оранг-кубу — действительно потомки достаточно развитой народности, которая, будучи изгнана со своей территории, ушла во внутренние леса и там регрессировала. Так, кубу по-прежнему носили на копьях железные наконечники, а на пальцах серебряные кольца, хотя сами уже разучились обрабатывать металлы. Что касается их наречия, то оно было очень похоже на языки побережья, и Аппенццелл понял его без особого труда. Особенно его поразило то, что кубу использовали крайне ограниченный словарь, не превышавший нескольких десятков слов, и он даже подумал, что по примеру своих дальних соседей, папуасов, кубу добровольно сокращали свой словарь, упраздняя слова всякий раз, когда в деревне кто-нибудь умирал. Одним из последствий подобного сокращения было то, что одно и то же слово обозначало все большее количество предметов. Так, малайское слово Pekee , означавшее «охота», означало еще и «охотиться», «ходить», «нести», «копье», «газель», «антилопа», «черная свинья»; а my'am , название очень острой специи, широко используемой при приготовлении мясной пищи, — «лес», «завтра», «заря» и т. п. Точно так же дело обстояло со словом cinuya — которое Аппенццелл сопоставил с малайскими словами usi («банан»), nuya («кокосовый орех»), — означавшее «есть», «еда», «суп», «калебаса», «лопатка», «скатерть», «вечер», «дом», «горшок», «огонь», «кремень» (чтобы добыть огонь, кубу чиркали один кремень о другой), «застёжка», «гребень», «волосы», и hoja' (краска для волос, изготовленная из кокосового молока, смешанного с землей и различными растениями). Из всех отличительных свойств жизненного уклада кубу лингвистический аспект известен лучше всего, поскольку Аппенццелл его детально описал в длинном письме шведскому филологу Хамбу Таскерсону, с которым познакомился в Вене и который в то время работал в Копенгагене с Ельмслевом и Брёндалем. Кстати, Аппенццелл отметил, что эту лингвистическую особенность можно обнаружить и в Западной Европе, у какого-нибудь столяра, который, подзывая своего подмастерья со специальным инструментом, имеющим конкретное название — пазник, пазовик, фуганок, крейцмейсель, шерхебель, зензубель и т. д., — скажет просто: «Дай-ка мне эту фиговину».
Читать дальше