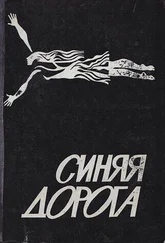— Ну, не в этом дело. Память оказалась бессильной в уничтожении Вялок. Это не я их, а они меня ритмично крушили ударами по голове, разбивая крыши и стены.
«Что тебя принесло! — мысленно взвыл я. — Погарцевать явился? Или поплакаться?»
— Какой вы молодец, что надумали заехать! — сказал я.
— Да с делом я, Артем Николаевич. Насчет кинофильма про Вялки, — тут он смутился.
Я услышал, как унылым фальцетом что-то запело в мозжечке: «Та-а-к!» Так. Так, значит. И ты туда же, чистый рыцарь призовых селедочниц и подарочных супниц. И ты хочешь позолотиться в льстивых лучах кинопроекторов? Прославляющим тебя экраном, как щитом, закрыться от возможных напастей? «Та-а-к!» — скучно ныл затылок.
Звук дрожал мгновение, и вдруг оборвался, канул в водоворот ликования, заполнившего меня.
Снова, как в Зюкином дворе, когда я ждал Катю, я ощутил: свободен! Своим заурядным тщеславием Степанов вновь освободил меня. Все они — и Зюка, и Катя, и сам он, Степан Степанович Степанов, годились для высокопарного или косноязычного резонерства, а коснись дело их самих…
И уже не скрывая удовлетворенного сарказма, сказал, будто припоминая:
— Так ведь уже существует вроде картина про Вялки, Велюгин ведь снимал. Недостаточно воспел?
Степанов смутился более прежнего. «Та-а-ак!» — уже весело откликнулся мой мозжечок.
— Да насчет этого самого я к вам и заявился, — сказал Степанов, потупившись. — Обидел я его, Велюгина-то. Железно, обидел.
— Чем же?
— Понимаете, что вышло. Премьера у него была сегодня. Меня позвал, Валеру Курихина с Матильдой, еще народ. Ну, как вы тогда на «Родину Жар-птицы». У него кинофильм тоже похоже называется: «Птенцы Жар-птицы». Птенцы — это Валера. И рассказано, как был знаменитый мастер Курихин Петр Семенович, как прекрасно он прожил, как был инициатором восстановления вялкинского фарфора. И меня туда же присовокупил Велюгин… А вот нынче Валера его достойное продолжение стал, Курихина то есть.
— Та-а-ак! — вслух сказал я.
— Так-то оно так, да не туда, — вздохнул Степанов, — сами вы знаете… И меня выступить попросили, как бы от героев картины. А я и скажи все по правде. Нехорошо вышло, но не мог я липу клеить. И еще.
— И что же вы сказали еще?
— Еще. Рассказал, что в районе нашем председатель колхоза один на приписках к выполнению плана в Герои вышел.
— Так что же, и председателя этого Велюгин в картине отобразил?
— Нет, зачем. Про председателя там нету. Но дело-то такого же рода. Тоже приписки и искажения. А так — вся жизнь туфта выходит. Что экономика, что человек.
И вдруг преобразился, вскочил даже со стула:
— Людей ему нету! Да хоть у нас возьми: помните Трофимыча — старик, который еще в печку петровскую при вас лазил? Сказал еще: «Не хуже аду». Может, не хуже, да и не намного лучше работенка. Мы ему, думаете, легкий труд не предлагали? Сколько раз. А старик: уйду с «Петрушки, — «Петрушка» — это мы так печку старую зовем — уйду, вы и печку затушите. И фарфоровое искусство старинных секретов затушится. Молодежь-то, она больше насчет механизации, кому охота в жар лезть. А нашлись: двух своих племяшей Трофимыч к делу пристрастил, заинтересовались на уникумы работать. Что ж, грех про такого картину заснять или по телику?
— Не грех, — согласился я, и это вложило в Степанова новый заряд энтузиазма.
— А помните вы про ребятишек-архитекторов: «Пижоны!» — сказали? Так эти вот пижоны у меня год бесплатно работали.
— Почему же бесплатно?
— Потому. Влюбились в наш фарфор, сами к нам приехали и говорят: «Хотим из Вялок фарфоровую столицу сделать, на особый манер». Я им: «Не имею средств на строительство предлагаемых вами объектов». А они: «Будет проект, будут средства». Я говорю: «А как не будут? Не пробьем проекта в инстанциях». Они: «Значит, помечтаем и порезвимся в свое удовольствие. Что, не можем мы задарма себе удовольствие доставить?» И вкалывали. Все субботы и воскресенья, весь отпуск. Задарма. И все изобразили — и музей, и школу художественную, и детсад со специализацией, и оформление магазинов и бензоколонки. Помните нашу бензоколонку? Все они, «пижоны» наши. Сами изразцы придумали, на формовке, на обжиге торчали «пижоны».
Степанов, отмитинговавшись, внезапно потишал, снова опустился на стул и уже мирно завершил:
— Вы про таких пишите, кому не копейка, а красота дела дорога, про бессеребреных. Только правду. А мы врем да врем. На собраньях врем, в газетах врем. Народ на вранье держим. Он уж и в правду не верит.
Читать дальше