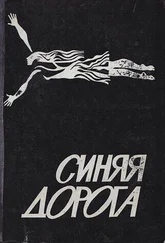— Смотри, — показал я Зюке, — он уже ощутил себя античным поэтом, достигшим гетеры.
— Они слепые, — дрогнувшим голосом сказала Зюка. — Какой ужас! Их спутники — это их глаза.
Один из поводырей, моложавый старик в джинсах и выцветшей майке, остановился у нашего окна, и Зюка спросила его по-английски:
— Кто эти люди?
Вежливым гидовским голосом тот ответил:
— Группа слепых из Голландии. Зрячие — члены благотворительного общества. Мы путешествуем вместе и помогаем им увидеть то, что они не могут увидеть.
— Но ведь они могли бы ограничиться вашими рассказами там, дома. Зачем же ехать в такую даль? Ведь это самообман, все равно они не могут увидеть. Видите только вы, — смятенная Зюка упорствовала.
— Да, конечно, — еще более вежливо согласился молодой старик. — Но они могут что-то ощупать, и это дополнит рассказ. А впрочем, разве мы все, даже зрячие, живем иначе? Пресса, телевидение, кино внушают нам информацию о мире, а мы лишь иногда можем коснуться чего-то рукой. Да и то только затем, чтобы немного четче ощутить навязанные нам сведения или концепции. Так что разница невелика. Не так ли? Согласитесь.
— Благодарю вас, — без улыбки улыбнулась ему Зюка и взяла меня за руку: — Поехали.
Когда мы сели в машину, она спросила, не глядя на меня:
— А тебе никогда не было страшно быть поводырем? Ведь ты — глаза миллионов.
Она замолчала и молчала долго, а я не знал, о чем она думает — об этих обкраденных судьбой слепых голландцах, которые, стремясь побороть слепоту, пускаются в долгие путешествия, или о моей профессии, ответственность которой вдруг по-новому открылась мне в ее словах.
Мы продолжали молчать, я мучительно придумывал, как бы продолжить разговор, повернув его в выгодном для меня свете. Но фразы, которые я тасовал, все не годились. А она неожиданно припала щекой к моей руке, лежащей на баранке, и тихонько сказала:
— Тёма! Спасибо, что ты вспомнил про девиз Эпикура; хоть на минуточку, но это вернуло Вялки.
И тут я действительно вспомнил: впервые переступая порог библиотеки, я положил на пол аппаратуру и, оглядев «зал», изрек: «Странник, тебе здесь будет хорошо; здесь высшее благо — наслаждение».
Баранка руля запрыгала у меня в руках, я вспомнил все. И как Зюка, тогда ничего не знавшая об Эпикуре (а мой отец все-таки был школьным учителем истории, и с его слов я поднахватался и сведений и цитат, которые и сейчас то и дело выскакивали во мне бог весть из каких закромов памяти), была смущена этим моим заявлением. И как потом, в Вялках, уже прощаясь со мной, в тот вечер она спросила, что за фразу я произнес. А услышав, что это Эпикур, заподозрила, что я обосновался в библиотеке с точным прицелом на получение плотских наслаждений.
«Странно, что ты ушел от меня в первый вечер, — сказала она. — Ты же эпикуреец». Это слово-то она знала.
«Глупыш ты, — засмеялся я, — глупыш и клерикальная ханжа. Это только попы считали, что античный мудрец с острова Самос проповедует радости плоти как основу бытия. Я тебя просвещу: «Наша цель — не страдать телом и не смущаться душой. И не беспрерывные пиршества и пляски, не наслаждения юношами и женщинами, или же рыбою и всем, что дает роскошный стол — не они рождают сладостную жизнь. Ее рождает рассудок…» Вот что провозглашал старик».
Зюка была ошеломлена моей эрудицией (еще бы, ко всем моим военным подвигам, известности — да еще и знание наизусть памятников античной философии!). Я, разумеется, не стал ей объяснять, что просто запомнил этот отрывок, потому что отец, воспитывая меня, любил приводить эту цитату из письма Эпикура к Менойкею. Отца крайне заботило мое пристрастие к «пиршествам и пляскам», хотя наши школьные довоенные собранки были весьма далеки от греческих оргий. Отец желал пробудить стремление к деятельности дремавшего в отроке рассудка.
Но, как ни странно — усилия родителей иногда дают такие плоды — с годами, может, и не следуя Эпикуру, я действительно сделал разум своим богом. Он всегда одерживал у меня победу над чувствами, хотя все вокруг считали, что Палада — «человек-стихия».
Я вспоминал все это, а Зюка была счастлива; я помнил все в подробностях. Она даже поцеловала меня в щеку.
— Браво, эпикуреец! Ты ведь остался эпикурейцем?
Я горделиво подтвердил:
— Да. И в работе тоже, — снова со дна черепной коробки выкарабкалась эпикуровская цитата, и я произнес ее без запинки: — «Никчемны слова философа, который не исцеляет никаких страданий человека. Ибо подобно тому, как беспомощна медицина, если она не в состоянии изгнать болезнь из тела, беспомощна и философия, если она не способна изгнать страдание из души». Моя работа, я считаю, призвана разгонять страдания, вселять оптимизм. И если хочешь, эта мысль Эпикура — мой девиз.
Читать дальше