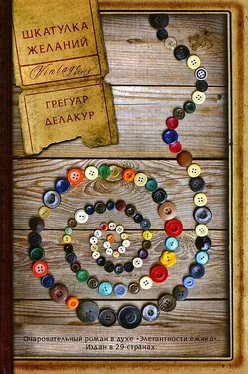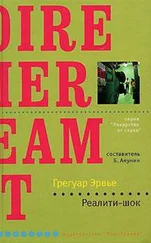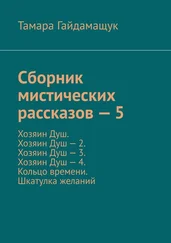Двойняшки провожают меня как можно дальше, дотуда, куда еще пускают. У обеих глаза на мокром месте. Я стараюсь улыбаться.
Первой догадывается Франсуаза. И произносит вслух невообразимое:
— Жо тебя бросил, да? Теперь, когда он уже, считай, начальник и вот-вот будет раскатывать на «кайене», он ушел к другой, нашел себе покрасивее и помоложе?
И тут разревелась я, слезы полились рекой. Не знаю, Франсуаза, он уехал, и все.
Мне приходится врать. Я умалчиваю о ловушке, об испытании искушением. О расколотом волнорезе моей любви. А может, с ним что-нибудь случилось, медовым, уютным голосом успокаивает Даниель, разве в Швейцарии людей не похищают? Я читала, что теперь, со всеми этими банковскими листингами и утаенными деньгами, в Европе стало примерно как в Африке. Нет-нет, Даниель, никто его не похитил! Никто его у меня не отнимал, он сам отнял меня у себя, сам вычел меня из своей жизни, отрезал, вычеркнул, стер, убрал — только и всего.
И все это время ты ничего не замечала, Жо? Ровно ничего. Ничегошеньки. Как в самом бездарном фильме. Муж отправляется на неделю в другую страну повышать квалификацию, ты его ждешь, перечитывая «Любовь властелина», делаешь себе маски, чистку лица, восковую эпиляцию, массаж с эфирными маслами, чтобы к его возвращению стать с головы до ног красивой и гладкой, — и вдруг понимаешь, что он не вернется.
Откуда ты это узнала, Жо, он оставил тебе письмо, что-нибудь в этом роде? Мне пора идти, и я скороговоркой бормочу: ни словечка, вот это-то и есть самое худшее: даже письма не оставил! Вот именно что ничего, совсем ничего, страшная, космическая пустота…
Франсуаза обнимает меня. Я шепчу ей на ухо последние распоряжения. Позвони мне, когда доберешься, шепчет она в ответ, едва я замолкаю. Отдохни как следует, прибавляет Даниель. А если тебе захочется, чтобы мы приехали, мы приедем.
Я прохожу контроль. Оборачиваюсь.
Они все еще здесь. Руки взлетают как птицы.
И я исчезаю за дверью.
Улетела я не так уж далеко.
Погода в Ницце чудесная, сезон отпусков еще не начался, и пока царит некоторая неопределенность. Пока идет время, отпущенное на выздоровление.
Каждый день, в тот час, когда солнце наваливается на спину, я иду на пляж.
Мое тело стало таким, каким было до Надин, до того, как наросла плоть, задушившая Надеж. Я хороша, как в двадцать лет.
Я каждый день, даже если солнце греет слабо, натираю спину кремом и по-прежнему не дотягиваюсь; и всякий раз в это самое мгновение сердце начинает колотиться, чувства обостряются. Я научилась держаться прямо, двигаться уверенно. В моих жестах нет и следа признания в одиночестве. Я тихонько растираю плечи, шею, лопатки, мои пальцы медлят, но без малейшего намека на двусмысленность… и я вспоминаю его голос. Его слова, произнесенные семь лет назад, когда я приехала сюда спасаться от жестокости Жо.
«Давайте-ка я вам помогу…»
Но слышу у себя за спиной совсем другие слова: разговоры сплетниц, болтающих по мобильным телефонам, разговоры школьников, которые приходят сюда покурить и посмеяться после занятий, усталые разговоры молодых и уже таких одиноких мам, пристроивших коляски с младенцами в тенек, — мужья ускользают, больше к ним не притрагиваются… горько-соленые, как слезы, слова…
Потом, в середине дня, насчитав сорок взлетающих самолетов, я собираю вещички и возвращаюсь в студию, которую сняла на несколько недель, на время, необходимое, чтобы сделаться убийцей. Она находится на улице Огюста Ренуара, позади Музея изящных искусств Жюля Шере.
Меблированную студию я себе нашла в доме, построенном в пятидесятые годы, в те времена, когда архитекторы Лазурного Берега бредили Майами, мотелями и кривыми линиями, в те времена, когда они мечтали отсюда вырваться. Студия некрасивая, неуютная, мебель безвкусная — прочная, и на том спасибо. Кровать скрипит, но, поскольку я сплю на ней одна, скрип никому, кроме меня самой, не мешает. Моря из единственного окна не видно, но когда я сушу белье, протянув поперек окна веревочку, к вечеру все пропитывается запахами ветра, соли и дизельного топлива.
По вечерам я в полном одиночестве ужинаю и в полном же одиночестве смотрю телевизор, а потом — все так же, в одиночестве, — мучаюсь бессонницей.
А еще по вечерам я плачу.
Вернувшись с пляжа, я сразу иду под душ, как делал папа, возвращаясь с завода. Но я смываю с себя не осадок глутаральдегида, а всего лишь остатки моего стыда и моего горя. Моих утраченных иллюзий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу