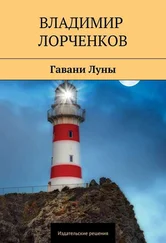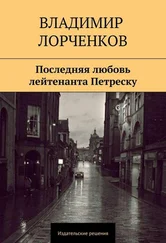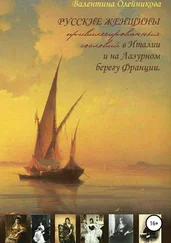Всё же в церквушке, по-видимому, было что-то, что она уловила мельком. И это что-то, прятавшееся в протопленном свечами полумраке, стало разворачиваться на пути в Пушкинские Горы. Позади себя она как бы почувствовала упавшую чёрную завесу. Увидеть завесу, оглянувшись, было нельзя. Темнота вставала не за спиной, а где-то сразу за глазами и временами вспыхивала опалесцирующей каймой. Марье Александровне казалось, что наступила ночь и она то сидит на месте водителя, глядя за дорогой в свете фар, то сама и есть автобус с включёнными фарами. Завеса охватывала её сзади, наваливалась, дразнила заревами, и, хотя Марья Александровна давала себе отчёт, что это обман чувств, каждый раз облегчённо сглатывала, когда оборачивалась и видела не полыхающую тьму, а людей в креслах. Но если с тем, что находилось вокруг, всё было ещё более или менее в порядке, то с тем, что находилось в прошлом, пусть даже отстоявшем на считаные минуты, происходило неладное. Тьма уже хозяйничала там. Марья Александровна не помнила, как села в автобус, а помнила только, что, когда шла между рядов к своему месту, на неё смотрели недовольно и отворачивались, стоило ей поднять глаза. Её недоумение разрешилось со словами Алексея, объявившего, что, слава богу, все на месте, можно ехать дальше. Она, оказывается, сильно опоздала. Ей сделалось до того стыдно, что она хотела встать и, как сама требовала от учеников, приходивших после звонка, объясниться, но автобус уже тронулся, Алексей рассказывал о каких-то монахах, и её вина была забыта вместе с ней. В своей руке она ещё запомнила Вовкин телефон, который не вынимала из сумки с самого Питера, и теперь, нащупав трубку в нагрудном кармане кофты, подумала, что забытью было подвластно только то, что делалось непроизвольно. Так, впрочем, всегда было. Она не помнила того, чего не понимала. Как природа не терпела пустых мест, так рассудок её не терпел пустых смыслов. Но сейчас или этих пустот делалось слишком много, или сам рассудок делался слишком слаб, чтобы восполнять даже старые прорехи. К чему бы теперь ни обращалась она в своей памяти, всюду, как слепца, спотыкающегося о предметы в незнакомом доме, её ждал этот грохот распадающихся, исчезающих смыслов: «Здесь было что-то, чего больше нет». Или: «Тут есть что-то, чего уже не разобрать». И неизвестно, сколько бы ещё она металась по этому сходившему оползню, если бы самый смысл происходящего не стал открываться ей тем, что было залогом спасения, — мыслью, что это не полыхающая тьма поглощает её рассудок, а это заветное имя набирается сил, ведь надо ему расти, складываться из чего-то, и как разум питается памятью, так оно, стало быть, питается самим разумом. И, решив так, Марья Александровна несколько успокоилась.
В Святогорском монастыре она глядела на заваленную цветами могилу Пушкина и уже думала, что не понимает, отчего немыслимое — смерть — всегда нуждается в украшательстве: тот, кто находится по ту сторону цветов, их не видит, а те, кто их оставляет, низводят смерть до уровня клумбы, то есть чего-то не только поправимого, но и управляемого, и это то же самое, как если бы мальчишки, вырастая, шли со своими игрушечными винтовками на войну. Немцы, заминировавшие могилу в сорок четвёртом, были, видимо, совершенные дети, полагая, что смерть дозволительно дурить и отсрочивать самой смертью. И как можно было не знать, что от смерти существует одно средство, как можно было не искать заветное имя, которому мир, со всеми его букетами и бомбами, служил только орудием?
В автобус Марья Александровна в этот раз вернулась раньше других и, когда группа стала собираться, молча считала поднимавшихся в салон, смотрела, кто будет опоздавший. Однако опоздавших не оказалось. Больше того — в экскурсии теперь был один лишний. Прибился ли он тут, «у Пушкина», или ещё раньше, в Печорах, она не могла сказать, как и того, кто именно был лишний и где он расположился в автобусе. Алексею, привычно пересчитавшему головы, ничего странного в том, что их полку прибыло, не показалось, но её это пополнение взволновало чрезвычайно. До самой турбазы она пробовала угадать новичка, затем высматривала его на улице и в столовой, и всё впустую — находясь, безо всяких сомнений, в группе, тот умудрялся не попадаться ей на глаза. Наступала ночь. Марья Александровна и ещё несколько человек, в отличие от основной группы, оказались почему-то поселены где-то за турбазой, в деревне. Из-за этого она сначала разволновалась чуть не до слёз, так как хотела непременно искать невидимку, но потом, представив, как ходила бы по номерам и ей открывали бы те, кто с Печор косился на неё, решила, что даже хорошо, что их разделили. В деревянной гостинице, называвшейся «литературным отелем», в своей комнатке с портретом юного Пушкина на стене и стопкой детективов на полке, она всё же долго не находила себе места. Приближение заветного имени и появление инкогнито в автобусе казались ей связанными. Впрочем, иначе, наверное, и быть не могло. Как вообще она узнала бы заветное имя — прочла бы его на табличке, вдруг выскочившей из-под земли? Но и в этом случае кто-то ведь должен был бы показать табличку? И отчего бы тому, что имело такую власть над прошлым и могло без остатка вычитать его из настоящего, было загодя не позаботиться о помощнике? «Будь что будет, будь что будет…» — говорила Марья Александровна про себя, продолжала ходить по номеру, брала и оставляла книги, потирала бог знает где испачканные зелёнкой пальцы и, глядя на Пушкина, усмехалась странной мысли, что всё ещё способна его узнавать.
Читать дальше