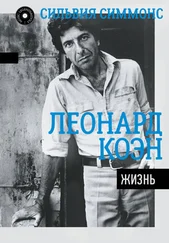И она опустила взгляд.
Всё было и лучше, и хуже, чем она предполагала. Мать, одетая в свой лучший воскресный наряд, выглядела лишь как раскрашенная кукла. Или как набитое человеческое чучело. Она была вся какая-то маленькая, с маленькой головкой. То ли прежде мать казалась Ли-Энн огромной, то ли действительно она к старости усохла.
Ли-Энн набралась храбрости и приподняла легкую сухую руку матери. К остаткам обгорелого безымянного пальца кто-то примотал истертое древнее-предревнее обручальное кольцо. Ли-Энн невольно вспомнилась собственная песня, написанная для третьего мужа, Ли Стармаунтина — единственного, которого она по-настоящему любила. Она даже напела строку про себя: «Столько миль за спиной, что руль изглодал золото твоего обручального кольца…» И ее горячие слезы закапали в гроб.
Потом сестры в двух машинах поехали домой.
На звук подъезжающих автомобилей выскочила Евангелин.
Полиция заранее отогнала настырных репортеров на другую сторону улицы. Однако несколько зевак — в основном женщины среднего возраста в мешковатых цветастых платьях — пробились через полицейский кордон и громко приветствовали чудесное дитя их города, которое вознеслось на такие высоты славы. Некоторые особо наглые щелкали фотоаппаратами. Другие просто махали и кричали: «Привет, Ли-Энн, добро пожаловать домой!» Она сухо кивнула толпе и последовала за сестрами.
Дом был всё тот же. Удушающе тесный. Безделушки и безделушечки, миленькие занавесочки, рюшечки, подушечки и кресты всех форм и размеров из всех доступных материалов и во всех мыслимых и немыслимых местах. На стенах фарфоровые блюда с цитатами из Библии. А над камином, где в других домах зеркало, бабушкин ковер с вышитыми гигантскими словами: «Ибо что посеете, то и пожнете». Зеркала здесь были запрещены категорически. И по сию пору Ли-Энн сохранила умение краситься, не видя себя.
Даже после основательной добросовестной уборки в доме пахло нехорошо. Евангелин объясняюще указала вверх: там, в спальне, оставался матрац. Полиция хотела прислать людей, чтобы его увезти, но отец встал на дыбы. То ли сантименты, то ли дурь сумасшедшего. Возможно, он на эту кровать в будущем молиться намерен — как на единственное, что смогло заткнуть пасть этой чертовой бабе. По словам сестер, он ничего не говорит. Он вообще теперь говорить не может. Раньше был безмолвный, а теперь стал немой.
— Ты на сколько приехала? — спросила Евангелин, когда они после ужина мыли посуду в кухне.
— Улетаю сегодня вечером, — внезапно для себя выпалила Ли-Энн.
— Как так сегодня вечером? А похороны?
— Мне надо, — сказала Ли-Энн. И добавила, внезапно застыдившись не столько того, что она улетает, не дождавшись похорон, а того, что она — улетает, то есть избирает самый дорогой вид транспорта, тогда как в семье все привыкли чуть ли не с колыбели экономить, экономить и экономить: — У меня срочные дела. Нельзя подводить людей. Работа есть работа.
Посуду домывали в молчании.
Только перед самым отъездом, когда такси уже ждало у крыльца, Евангелин отвела Ли-Энн в сторону и протянула ей конверт. Дескать, нашла среди материных вещей в сундуке. На конверте аккуратным почерком было написано: «В случае моей смерти передать Ли-Энн Мурхед». Ее имя существовало для матери только в одном варианте с фамилией первого мужа. Другие мужья — от Сатаны.
— Сама знаешь, ты была ее любимицей, — сказала Евангелин.
Ли-Энн открыто фыркнула.
— Ну, может, она не всегда умела это показать, но она действительно любила тебя больше других.
Ли-Энн стояла молча, неловко сжимая в руке конверт.
— Возможно, она хотела сказать тебе напоследок что-нибудь очень важное, — тихо произнесла Евангелин. — Возможно, хотела напоследок помириться.
Ли-Энн сунула конверт в сумочку, и они вернулись к остальным.
На прощание она всех перецеловала — кроме отца. Его поцеловать Ли-Энн себя заставить не смогла. Он сидел на ступеньках крыльца — грязный дебильный старикан и таращился перед собой. С этой последней картинкой в голове она и удрала.
В такси, когда тот дом, та улица и тот город — все они остались позади, и навсегда, ей бы испытать великое облегчение — не гора, целая планета с плеч! — и воспарить душой. Однако в сумочке лежал конвертик — каменная глыба, которая тянула вниз, вниз, вниз. Ли-Энн держала сумочку на коленях. Дико хотелось заглянуть в конверт. Конечно, не исключено, что мать «хотела напоследок помириться». Дескать, не держи на меня худого, прости если что. Трах-бах, несколько ничего не стоящих покаянных строк, и она с чистой совестью отправляется к Всемогущему — словно и не было кошмара пережитого Ли-Энн, как будто некий сволочной добряк любезно плеснул ведро белой краски на черное пятнышко ее прошлого. А может, в конвертике — объяснение в любви. И это будет в миллиард раз хуже прежней ненависти. С ненавистью она кое-как сжилась-смирилась. А что делать с внезапно открывшейся любовью?
Читать дальше
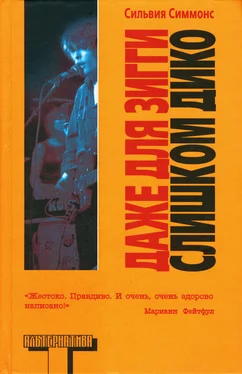
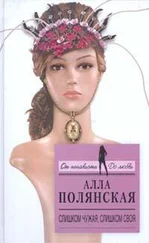






![Татьяна Тронина - Слишком красивая, слишком своя [litres]](/books/430984/tatyana-tronina-slishkom-krasivaya-slishkom-svoya-li-thumb.webp)